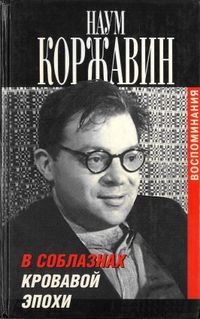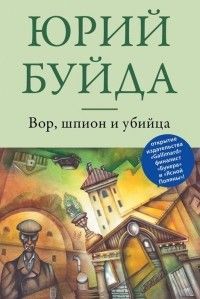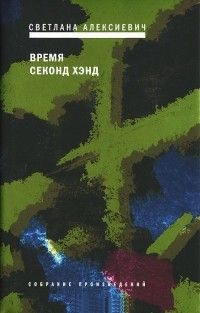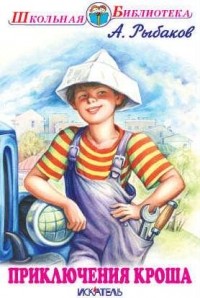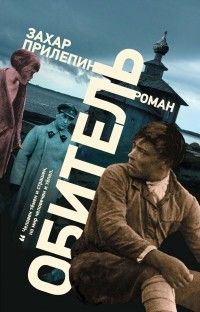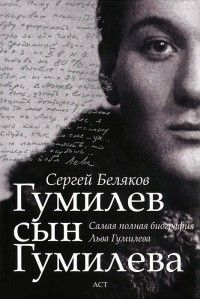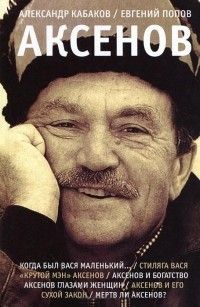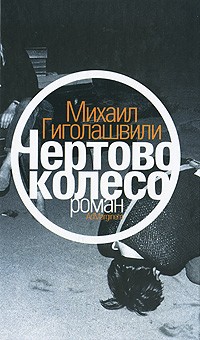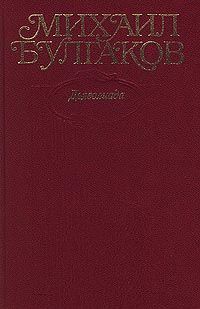Шамиль Идиатуллин «Город Брежнев» (2017)
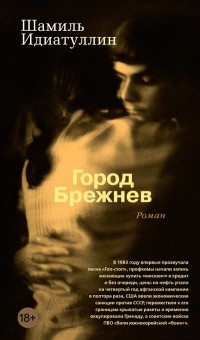
Кому-то суждено вспоминать о годах роковых, а кто-то вспоминает некогда являвшийся городом личного детства Брежнев, запомнившийся всем тем, что принято думать о восьмидесятых годах Советского Союза под управлением Андропова. Будучи юным, Шамиль Идиатуллин застал всё то, о чём он написал, восприняв таким, каким заставляет будущее идеализировать представления о прошлом, порою придавая налёт обязательной серости. Такая память — отражение индивидуального восприятия. Подобные мысли не излагаются красиво и под видом привлекающей внимание истории. Автору хотелось рассказать о многом, и он не останавливался, нагромождая одно на другое.
Шамиль не отказывается от собственной значимости. Он вырос в сложных условиях, потому не считает детские годы простыми. Согласно текста произведения, он участвовал в разборках, когда квартал шёл на квартал. Но лучше начинать не с этого, а с пионерлагеря — со спокойного места, далёкого от проявления жесткости. Не бывать там главному герою, не заставь его родители. Оказалось — к лучшему. Появилось о чём вспомнить много позже. Лагерь и есть лагерь. Воспоминания о нём без дополнительных красок — угнетение сознания читателя.
Чем ещё мог интересоваться советский подросток? Допустим, восточными единоборствами. А что он о них знал? Ничего. Сверстники говорили разное, печатные издания оказывались наполненными противоречивыми сведениями. Кому хочешь, тому и верь. Понимай цвета поясов на своё усмотрение, бей ребром ладони всякий попадающийся на пути предмет. В такой неопределённости протекала жизнь представленного на страницах главного героя.
Дабы не создавать впечатление об излишней концентрации на себе, чтобы читатель не подумал, будто Шамиль взялся вспомнить своё детство. В повествование добавлены взрослые с присущими уже им проблемами. Говоря точнее, Идиатуллин решил посмотреть на подростков со стороны учителей. Такое вольное отступление не способствует лучшему пониманию содержания, бесцельно рассеивая внимание читателя. Окажется, разводить детский сад могут не только дети дошкольного возраста. Этим озадачиваются и люди ответственные, находя проблемы на пустом месте, не умея найти им решение.
Вольные вставки обязательно завершаются. Действие опять касается главного героя, раскрывающего новые затруднения жизни подростка в советском государстве, да и в российском вообще. Как не вспомнить о физическом труде на даче? Для родителей то было дачной романтикой, иногда с шашлыками. Где уж там, на фоне постоянных нагрузок краткие дни огородного веселья утонули в мраке прочих обязанностей, чья польза так и осталась поставленной под сомнение.
Касательно самого главного героя повествования Идиатуллин приводит наглядную характеристику затруднений в связи с татарской фамилией, означавшей для жителя города Брежнева обязательные уроки татарского языка. Если кто не знает — малый отрезок времени Набережные Челны назывались тем самым Брежневым. Затруднение заключается в следующем: главный герой не относит себя к татарам, язык отца он не учил и не желает. Может оно и так, ежели забыть про написанные Шамилем произведения, опровергающие любые мысли, связанные с занимаемой представленным им подростком позицией.
Как же следует писать о личном? Разве следует забывать былое? Беллетристика для того и существует, призванная опираться не некие события, придавая им вид выдумки. Остаётся думать, как Идиатуллин измыслил некогда происходившие с ним события, создав на их основе литературное произведение «Город Брежнев». Знать бы лучше о жизни Шамиля, получилось бы сказать определённее, без использования предположений, о ком и для чего автор старался рассказать.
Долю признания Идиатуллин получил. Его труд не пропал даром — премия «Большая книга» сочла возможным сделать произведение достойным третьей позиции в числе лауреатов за 2017 год.
Автор: Константин Трунин