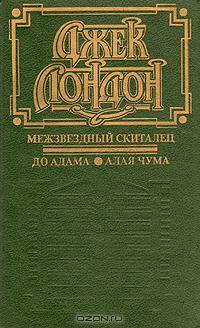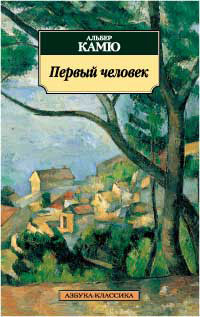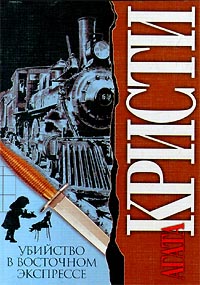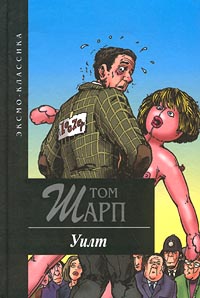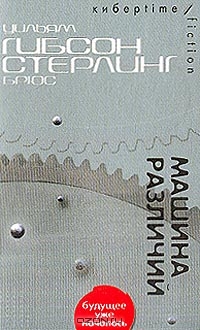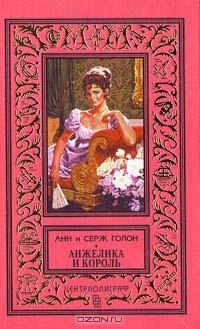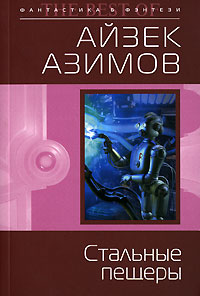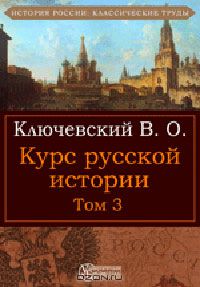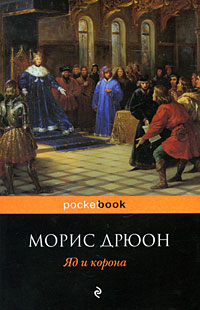Сидни Шелдон «Мельницы богов» (1987)
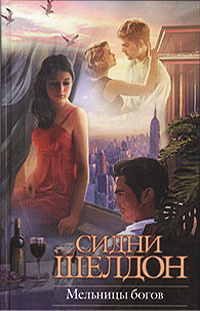
Сидни Шелдон делает попытку заглянуть в недалёкое будущее. В 1987 году можно было смело писать рассказы об ослаблении позиций Советского Союза в девяностых годах. Шелдон делает скромную попытку в виде борьбы за одну из стран социалистического лагеря, где западные страны наконец-то получают возможность показать прекрасный облик своего стиля жизни, да вырвать из цепких лап Москвы. Последовавшая реальность разбила в прах все предположения Шелдона, поскольку Союз распался и без попыток подтачивания его через Румынию, куда автор переносит основные события книги. Перед чтением стоит отбросить всю политическую составляющую, сосредоточившись только на знакомстве с профессией посла и взаимоотношениях людей.
Главная героиня — скромная девушка, что тихо живёт в одном из фермерских штатов, спокойно преподаёт в учебном учреждении и очень счастлива в браке. Поворотным моментом её жизни стоит считать небольшую книгу о Румынии, ей написанную, которой заинтересовался свежеизбранный сорок второй президент США, решивший строить политику внутри страны через простых людей. Таким образом, героиня становится послом в Румынии, дабы показать лицо штатов с самой выгодной стороны и очаровать весь соцлагерь неподражаемой харизмой успешного политика и самой лучшей в мире мамы. Пытаясь донести до читателя светлый образ Америки, Шелдон представляет демократию не в самом выгодном свете, заставляя читателя думать, что президенту нельзя отказывать, что его надо уважать из-за доверия ему большей части населения страны, что президент не может ошибаться в своих действиях; только Шелдон всюду сеет семена сомнения и позволяет читателю лично убедиться в иллюзорности свободы при демократическом режиме правления, где президент сам может стать пешкой в чужой игре. Пусть люди радуются, когда в жизни ничего не происходит. И трижды подумают, прежде чем отказать президенту в любой просьбе, пускай даже, если он попросит вас стать послом в какой-нибудь стране или, может быть, пригласит стать министром в правительстве; последующие за отказом события заставят их горько пожалеть о дерзком поведении и думах о собственном благополучии. Шелдон проедется на таких сполна, наполняя сюжет множеством трупов. Вот человек дышал, думал, выражал свои мысли, а вот его тело уже остывает, уступая своё место следующему. В круговороте убийств крутятся лопасти «Мельницы богов», сметая всё на пути. Американская мафия уступает своё место крупной международной организации, решившей стать наднациональным объединением. Похоже, потепление отношений вследствие окончания холодной войны вносит много нового, включая и в творчество Шелдона тоже.
Героям книги начинаешь действительно сочувствовать, видя творимую вокруг несправедливость, когда от человека ничего не зависит. Шелдон так строит сюжет, что в действующих лицах сомневаешься до самого конца. Ты не можешь определиться даже на момент окончания книги — всё было настолько запутано, что просто будет логичным продолжение перемены ролей. Как знать, может и кроткая овечка окажется волком, способным перевернуть всё с ног на голову. Где-то Шелдоном была утрачена та грань, когда читатель был твёрдо уверен в героях, но после которой сомнения остались окончательно. Кроме резких поворотов, Шелдон пользуется писательским приёмом, позволяющим писателю водить читателя по страницам в слепом неведении, поскольку читатель не может воссоздать тот образ, который рисует сам писатель, изначально надеющийся хранить секрет до самого конца. Безусловно, такой приём имеет право на жизнь, но становится весьма нечестным. Это больше свойственно авторам детективов, что с помощью слов создают ложные предположения. Когда карты выложены на стол и приходит время их открыть, то блеф оказывается на поверхности, отчего игроки могут смело хвалить человека, ловко всех разыгравшего. Так же будет вести себя и Шелдон, разыгрывая партию, завязав глаза читателю, предпочитая всё сообщать ему лично, но без возможности подсмотреть.
Каждому герою Шелдон уделяет достаточное количество внимания, формируя у читателя образ живого человека. Перед тобой не безликая проститутка, а женщина со своими мыслями и желаниями; не одиозный политический диссидент, а жестоко обиженный и всего лишённый человек; не доктор французского посольства, а весьма загадочная личность; не шериф на месте происшествия, а здраво размышляющий аналитик; не безжалостный наёмный убийца, а пошедший не по тому пути интеллектуал; не посол в Румынии, а простая американская гражданка, желающая обыкновенной любви.
Расходный материал, попавший в жернова мельницы богов — это человек. Состояние после испытания — его сорт. Дальше — чистый Шелдон, лишённый примесей.
Автор: Константин Трунин