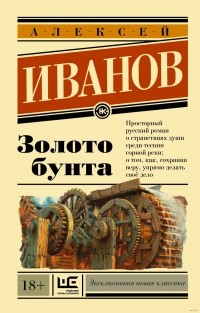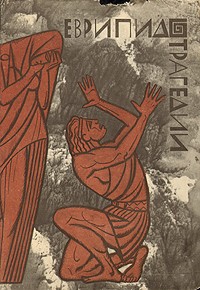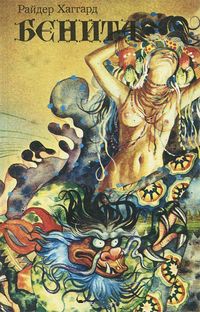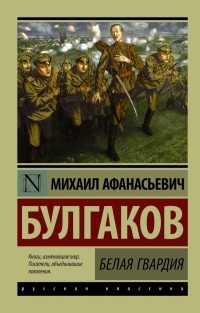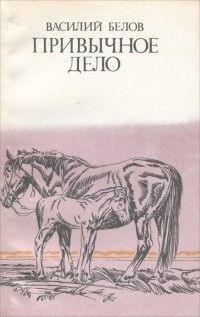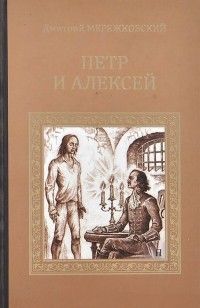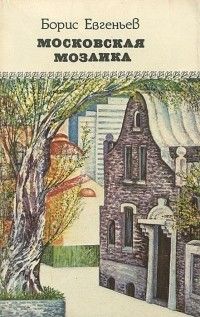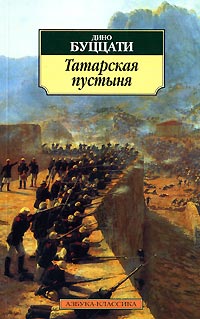Стендаль «Арманс» (1827)
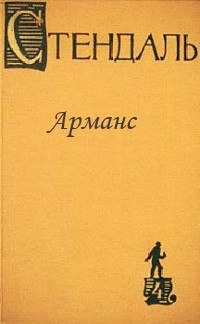
Нет тягостнее чувства, нежели чёрная меланхолия, толкающая наложить на себя руки, забывшись под прикрытием желанного покоя. Нет соответствия между желаемым и происходящим в действительности — основной провоцирующий фактор такой меланхолии. Будь у человека хоть крупное состояние, оно не сможет уберечь от мрачных мыслей. Нужно с рождения быть ей подверженным, тогда, как не старайся уберечь, неотвратимое случится. Человек утолит печаль собственноручно или запрётся в четырёх стенах. Но пока такое не произошло, есть смысл за ним понаблюдать. Один из примеров предлагает Стендаль в романе «Арманс».
Арманс — имя кузины главного героя, в которую он влюблён. Она — дочь погибшего на войне русского генерала, сирота, бедна, ей восемнадцать лет. Главный герой, Октав, двадцати лет, выпускник Политехнической школы, себе на уме, по мнению учившихся с ним — псих. Оба они постоянно думают о самоубийстве, либо уходе в монастырь. Делают попытки к прекращению жизни: принимаю яд или стреляются. Напитаны романтизмом до противного, на происходящее вокруг не обращают внимания. Им безразлична политика и чехарда смены империй, республик и реставраций. Они представлены сами себе, их давит чёрная меланхолия, выход видят лишь в прекращении созерцания друг друга.
Оторванность от происходящего не заставляет действующих лиц задумываться касательно значения для общества. Погружение в мысли и отказ видеть что-то другое, кроме переживаний, само представляет опасность. Задумчивость на дороге легко обращается в инцидент, едва не послужив причиной ранней гибели Октава. Ему всё безразлично, возможно следовало опомниться и решительнее шагнуть к карете, дабы колесо не просто коснулось тела, а раздавило грудную клетку. Мученику мыслей не дано понять, насколько необходимо сберегать тело, иначе придётся стать мучимым физическими недостатками. При отсутствии желания бороться за жизнь, чёрная меланхолия его окончательно пожрёт.
Непонятным образом Октаву и Арманс симпатизирует борьба греков за освобождение от османского ига. Она их даже вдохновляет. Это единственный момент, показывающий читателю главных действующих лиц чем-то заинтересованных. Может нет смысла сводить напрасно счёты с жизнью, когда можно принести себя в жертву во имя других? Так думается, желается и мечтается, но не осуществляется. В думах чёрных меланхоликов чуждая им отвага — проекция собственного видения, положенная на понимание самоубийственных актов неповиновения, обречённых на прекращение мучения участников борьбы. В глазах Октава и Арманс сопротивление греков — такое же отражение чёрной меланхолии, но осуществляемой во имя явственной цели, а не из романтических представлений о пустоте бытия.
Нет в жизни главных действующих лиц определяющего предназначение события. Видя пыл других, сами они его лишены. И следовало бы оступаться, пробуя себя в разных сферах, набивать шишки, морально возвышаться поисками достойного дела. Не бояться, что кто-то подумает не так, как им того хочется. Коли обольют помоями или худо отзовутся, хуже от того не станет. Их же смелости хватает на сражение с руками, вливающими в сосуд яд и подносящих его к губам, либо нажимающих на курок, поднесённого ко рту оружия. Нет пользы и нет толка от чёрной меланхолии. Общество того времени ничего против неё не имело, поощряя дуэли и прочие негативно сказывающиеся на здоровье мероприятия.
Стендаль не нашёл средства для спасения Октава и Арманс. Может он и не хотел этого делать. Написанная им история оказалась наполненной трагическими событиями, спровоцированными неустроенностью молодых людей. Или им претило жить в неспокойное время, либо они стали отражением неопределённости французского народа, раздираемого противоречиями в лихорадке перемен, съедавших лучших из своих представителей. Как не быть подверженным меланхолии, когда будущее полнится неопределённостью?
Автор: Константин Трунин