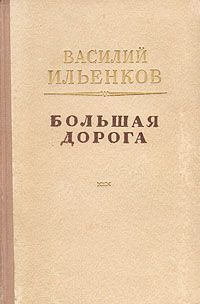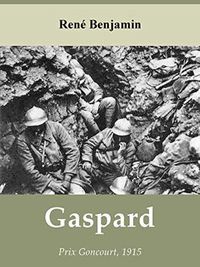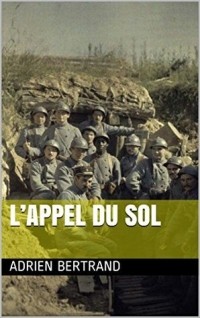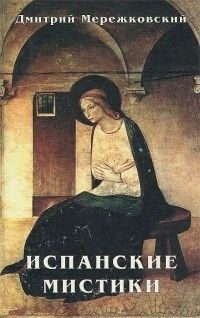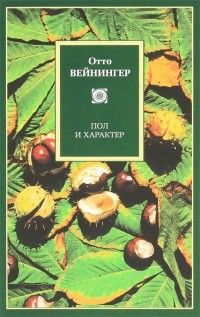Василий Шукшин — Публицистика 1974

Поговорим о последних публицистических работах Шукшина. Ничего не предвещало, что жизненный путь Василия должен оборваться. Шукшин жил думами о будущем, имея планы, должные быть реализованными. Но чего не случилось, тому и быть таковыми сталось не суждено. Первой статьёй за 1974 год нужно обсудить «Возражения по существу», опубликованную в «Вопросах литературы». Василий считал, насколько киноиндустрия влияет на писателей, чаще всего оказывающихся лишёнными способности вернуться чисто к литературном процессу. Так произошло и с самим Василием, он теперь мыслил себя сугубо в связи с кинопроцессом. Но как в литературе, так и в кино, существуют критики, выражающие какое-либо мнение. Поскольку на «Калину красную» был некоторый шквал осуждающих замечаний, то приходилось с этим только мириться. Шукшин к тому и хотел подвести статью, что личное мнение критика — это всего лишь его личное мнение, которое нет никакого смысла оспаривать.
Статья «Если бы знать» — это результат беседы с корреспондентом журнала «Правда», опубликованный под названием «Самое дорогое открытие…». После смерти Шукшина статья была дополнена реконструкцией самой беседы. Василий теперь говорил, насколько близок ему стал театр, как желает сосредоточить свою деятельность именно на нём, будет писать повести для постановок. Сюжетов для сцены у него полно, ими забит весь блокнот. Правда Шукшин сетовал, что этому пока мешает его участие в съёмках фильма «Они сражались за Родину».
Продолжение мысли Шукшина может прослеживаться по статье «Избираю литературу…», как ещё одного результата беседы, теперь уже для болгарской газеты «Народная культура». Василий говорил о впечатлении от встречи с Шолоховым, по произведению которого ставился фильм «Они сражались за Родину», и отвечал на вопросы о режиссёре — Сергее Бондарчуке.
Читателю должен быть интересен замысел участия Шукшина в работе над сценарием под названием «Квинтэссенция души». Василию предложили проработать текст про маньяка. Главный герой произведения не имел желания ехать на север, для этого он предпочёл совершить преступление. Даже не верится, будто Шукшин мог нечто подобное раскрыть в полной мере. Всё-таки задумывалось не воссоздать метания человеческой души, стремившейся породниться с утраченными корнями, отринув преступную сущность, каким образом это происходило в «Калине красной». Теперь сюжет выстраивался вокруг подлинного преступника, лишённого принципов. Полагалось воссоздать жизнь человека, замыслившего убить одиннадцатилетнюю сестру, заодно свести счёты с жизнью всякого, кто станет очевидцем данного обстоятельства. Главный герой был готов убивать каждого, невзирая на отношение к нему. Прорабатывался и план убийства отца, случись тому войти в момент совершения преступления. Всё задуманное будет реализовано. А ведь Шукшин это мог действительно описать…
В результате беседы с итальянским корреспондентом появилась статья «Я родом из деревни…». Может Василий лукавил, но он говорил, насколько далеки от него судьбы преступников. Если он и пишет о подобных людях, то в том надо искать совсем другой смысл. В первую очередь, Шукшина интересуют судьбы крестьян, вынужденных разрывать связи с деревней. И лишь во вторую очередь — всё остальное.
К 1974 году относится заявка «Предлагаю студии», в которой говорилось о необходимости снимать фильма про Разина.
Что касается прочих публицистических работ, они стали известны читателю уже после смерти Василия. В 1979 — «Отдавая роман на суд читателя…», «Из рабочих записей». В 1981 — «Будь человеком», «О Разине», «Ещё раз выверяя свою жизнь…», «Проблема языка». В 1989 — стенограмма выступления «Стенька для меня — вся жизнь». В 2003 — «Выдуманные рассказы».
Читатель должен понимать — насколько Шукшин готовился измениться. Но стоил ли такой надлом той цены, которую Василий в итоге заплатил?
Автор: Константин Трунин