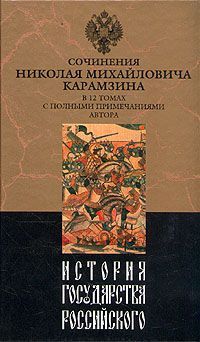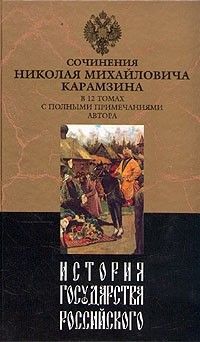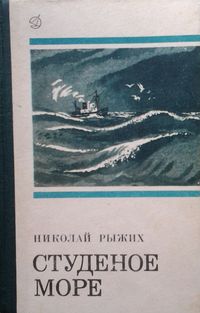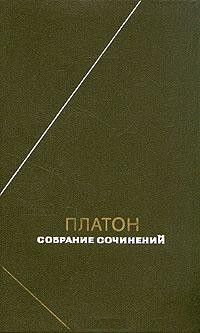Людмила Улицкая «Люди нашего Царя» (2005)
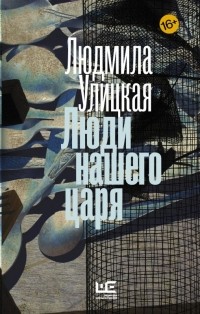
«Поднимите, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдёт Царь Славы»
(с) Псалом 23
За первый миллиард лет Создатель из большего сущего создал меньшее сущее. За второй миллиард лет — отделил материю от антиматерии, сделав сущее видимым. За третий миллиард лет — позволил видимому стать осязаемым и вступить в соприкосновение. За четвёртый миллиард лет — определил всякому осязаемому своё место. За пятый миллиард лет — вдохнул в те места жизнь. За шестой миллиард лет — пожал труд дел своих, подготовив замену себе. На седьмой миллиард лет Создатель отдыхал. На восьмой миллиард лет — будет отстранён, ибо плод мыслей его сам станет создателем, умеющим отделять меньшее сущее от большего сущего.
Царь небесный, к тебе обращаются люди. Твоим именем распоряжаются. От имени твоего совершают поступки. Царь небесный, твои люди не существуют миллиарда лет. Людям твоим мнится значение твоё. Видят люди доступное им — тянут руки они к тому. Рождается новое, порою немыслимое. Не тот ещё человек, чтобы достойно принять дарованное тобой. Одним человек способен управлять вне воли твоей. Написаны людьми ради тебя книги разные. В книгах тех они исповедуют писательский промысел, тем власть твою божественную попирая. Они люди твои — Царя небесного, и живут они согласно твоему желанию. Тянутся они к плоду познания, принимая от тебя заслуженное наказание. Позволено людям мыслить различное, вплоть до доступного им промысла, и спокойны они, ибо тем не умаляют значения твоего.
Прости, Царь небесный, писателей. Не из злого умысла трудятся они во славу твою. Берутся они сказать важное для дня своего насущного. Каждый писатель о личном говорит, не заботы о людях ради. Что им люди? Человек для писателя — бренная оболочка бытия. Писатель обрекает его на горе и страдание, тем прихоти собственные удовлетворяя. Не из желания дать людям человеческое по их надобности, ибо надобно человеку сугубо запретное. По думам твоим писатель после поступает, даруя райское блаженство достойным и жаркое пекло оступившимся.
Согласно воле твоей, ибо воля твоя — воля всего сущего, великое множество судеб доступно писателю, он ломает каждую судьбу по отдельности. Во грехе живут люди на страницах книг писателя, получая заслуженное ими жизни разрешение. Всякий рассказ достоин повести, а повесть — романа, тогда как роман — это сборник малых произведений, имеющих одно общее — писателя: и тебя.
Царь небесный, обрати внимание на людей своих, узри в людях желание донести до тебя весть о страданиях своих. Писатели — посланники человечества к тебе, о людях забывшему. Или карой отзовись, поразив людей, от мук избавив, либо снизойди, очисти души от гнилости. Послушай писателей, Создатель. Внемли словам их, ибо день седьмой близок к завершению — к восьмому витку вкруг тобою созданного готовится сущее.
Не закончатся страдания человеческие, ибо возрастут они многократно. От чего не уберёг людей, Царь небесный, то они даруют меньшему сущему. Не видя иного, не имея других представлений, человек воплотит им написанное в действительность, породив тем недовольство великое, обратному схлопыванию подобное. Ежели всё в отрицательном значении видится, то почему не видится в положительном?
Царь небесный, не отказывай писателям в праве на творимое ими. По воле твоей они воплощают в тексте тобою задуманное. Неустроенность человека — плод прежних прегрешений. О том говорят люди, мольбы еженощные к тебе направляя. Больно видеть и осознавать. Всё по воле твоей. Сие — правда!
Автор: Константин Трунин