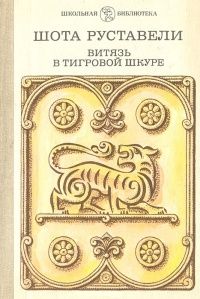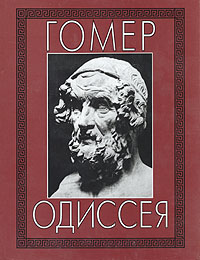Иван Бунин — Стихотворения и рассказы (1889-1909)
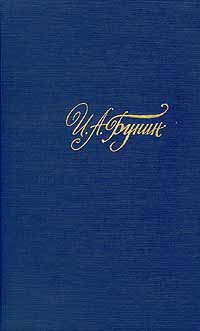
Стихотворения созданы для отражения сильных эмоциональных переживаний при переполнении души впечатлениями. Можно прожить годы, не создав ничего путного, и за одно мгновение воссоздать в рифмованных строчках нечто потрясающее, оставив потомкам малую частицу, ставшую определяющей характеристикой для всех созданных творений. Иван Бунин единожды сказал про бушующую половую воду, чем отразил себя, при общем невзрачном впечатлении от основных его произведений, в том числе и стихов.
Бунина следует считать поэтом уже за желание писать лирику. Ранние годы дали миру в меру талантливого человека, способного улавливать изменения в природе и заносить их на бумагу. Бунин создавал подобие очерков, не проявляя излишней фантазии, сообщая обыкновенные явления. Иван не играл с формой и не дышал поэзией, как того хотелось бы читателю. Бунин слишком прямолинеен и не даёт представления о своих эмоциях. Он желал писать, но из под пера выходил плод наблюдательных дум, не позволяющий говорить о Бунине, как о впечатлительном поэте.
С годами, наблюдая за упадком деревень, а также путешествуя по миру, Бунин перестал созерцать природные явления и начал находить вдохновение в людском горе и стародавних преданиях. Может показаться странным, но отчего-то нет у Ивана достойных произведений, описывающих его боль от революции. Может он эмоционально перегорел и выговорился в прозе, либо он уже не имел сил уделять внимание стихотворной форме, которая, даже при сильном на то желании, всё равно не смогла бы донести бурю страстей, требуемую для отражения тяжёлого положения соотечественников.
При желании писать можно о чём угодно, нужно лишь осознавать необходимость этого. Бунин писал и не обращал внимания на критику, относясь к ней с усмешкой. В этом, безусловно, Иван был прав — важнее личное мнение, поскольку не скажи он, то и никто не скажет.
Ранняя проза Бунина — такая же созерцательная, как его поэзия. Складывается впечатление, будто Иван не придумывал, а просто отражал подмеченное и услышанное. На выходе получались зарисовки. И пусть они нравились, допустим, Антону Чехову, это не изменяет общий их депрессивный тон, так свойственный практически всем произведениям Бунина.
Кругом всё плохо: деревни вымирают, люди деградируют, радужные перспективы отсутствуют. Данный подход к отражению действительности прослеживается с первых рассказов Бунина. Лучше всего у Ивана получалось рассказывать о пустых хождениях по местам, где отсутствуют люди. Только там он мог чувствовать себя спокойно, забывая о человеческой склонности разрушать собственную жизнь и вносить разлад в чужие судьбы.
И даже в сказочных мотивах, изредка проскальзывавших в его творчестве, содержится желание наставить людей на путь истинный, принеся себя в жертву, чтобы сгинуть в безвестности, забыв обо всём, кроме необходимости даровать счастье заблудшим, пусть и ценой жизни.
Так рождался и выковывался Бунин-писатель и Бунин-поэт. Своё мировоззрение он пронёс до конца жизни, подвергаясь не внешнему воздействию, а сохраняя в себе врождённое чувство отстранённости от реальности, словно ему суждено было родиться в иное время, настолько он противился происходящему вокруг, пребывая в неистребимой постоянной грусти. Исторические обстоятельства придали его размышлениям особую атмосферу, удивительно точно отразившей мнение последующих поколений, чей удел созерцать былое и пытаться осмыслить произошедшее, опираясь на мнение человека, пережившего катастрофу в виде утраты родины.
В грусти тоже есть своя прелесть, если избегать чрезмерной хандры. Бунин родился осенью. И осень осталась в его душе. Только сердце мгновенно отгорело. И тлело. И тлело. И тлело.
Автор: Константин Трунин
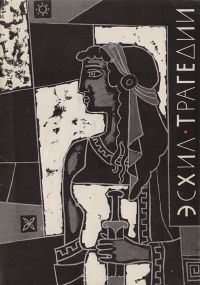
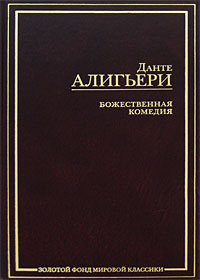

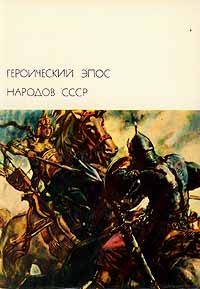
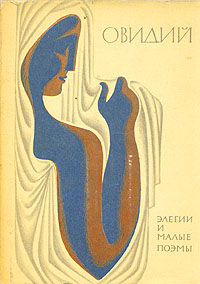
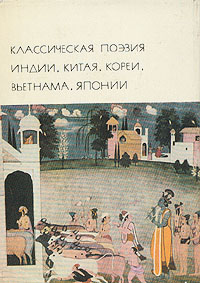 Издательство «Художественная литература» в течение десяти лет, начиная с 1967 года, выпускало книжную серию «Библиотека всемирной литературы». Сама идея достойна уважения, была бы она грамотно воплощена в жизнь. К сожалению, часть изданий не была подготовлена на должном уровне. Как песок утекает сквозь пальцы, так и эстетическое удовлетворение мгновенно оказывается на нуле. Понятно на страницах наличие подстрочного перевода, но он имеет неприглядный и неудобоваримый вид. Лучше ничего не знать о поэзии других народов, нежели представленный «Художественной литературой» вариант. Аналогично «Классической поэзии Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии» ими было подготовлено издание, например, сборника «Античной лирики». Лишь вступительные статьи достойны похвалы.
Издательство «Художественная литература» в течение десяти лет, начиная с 1967 года, выпускало книжную серию «Библиотека всемирной литературы». Сама идея достойна уважения, была бы она грамотно воплощена в жизнь. К сожалению, часть изданий не была подготовлена на должном уровне. Как песок утекает сквозь пальцы, так и эстетическое удовлетворение мгновенно оказывается на нуле. Понятно на страницах наличие подстрочного перевода, но он имеет неприглядный и неудобоваримый вид. Лучше ничего не знать о поэзии других народов, нежели представленный «Художественной литературой» вариант. Аналогично «Классической поэзии Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии» ими было подготовлено издание, например, сборника «Античной лирики». Лишь вступительные статьи достойны похвалы.