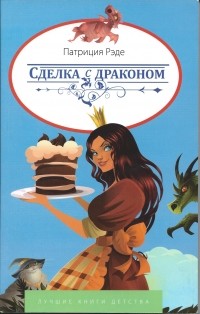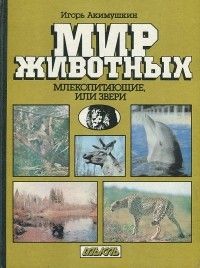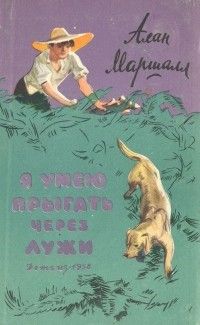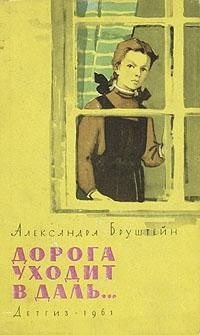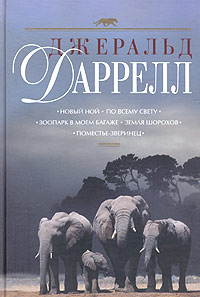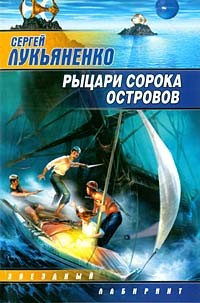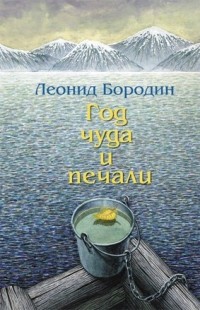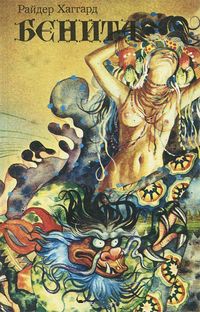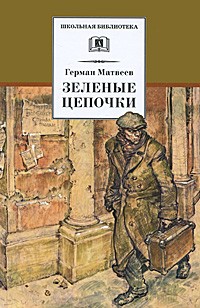Райдер Хаггард «Нада» (1892)
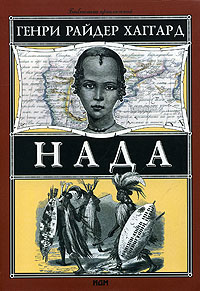
Африка неизмеримо богата на истории, игнорируемые читательским миром. Сами африканцы не пишут, а если и пишут, то о том практически ничего неизвестно русскоязычному читателю. Есть у африканцев всё для того требуемое, но не пользуется спросом их былое. Остаётся полагаться на такого писателя, как Райдер Хаггард, сумевшего занять нишу в литературе, снова и снова открывая до того неведомые миры.
В «Наде» читателя ждёт расцвет империи Зулусов под руководством жадного до человеческих жертв Чеки (он же Чака, он же Шака). Сей властитель правил железной рукой, устранял неугодных и при желании мог наполнять ущелья телами подданных. Чека сумел создать крепкое государство, повергавшее соседей и ставшее грозной силой. Его мог остановить только технически более оснащённый противник, полагающийся при ведении боевых действий на огнестрельное оружие. Иначе остановить орды зулусов не представлялось возможным. Выстроенная Чекой империя падёт уже после окончания событий, описанных Хаггардом. Важна сама личность правителя, волей судьбы объединившего воинственные способности своей нации.
Повествование ведётся от лица Мопо, знахаря Чеки, особо приближённого к нему и потому знающего многое, чего не знали современники и не могут знать потомки. Хаггард опирается на известных исторических деятелей, окружая их выдуманными личностями, строя сюжеты, которых в действительности никогда не было. Не стоит винить в том автора — в художественной литературе подобные приёмы не порицаются. Главное, Хаггард получил возможность отразить быт зулусов, познакомив с ним читателя. Есть от чего придти в ужас и есть чему восхищаться.
Построенная на насилии страна, жители которой пребывают в постоянном страхе, являясь при этом звеньями сплочённого объединения, заменяемые при необходимости и не являющиеся важными частями, поскольку Чека вовлекал многие народы, не делая между ними различий. Племена стирались по мановению руки, без принуждения убивая себя и детей, когда того желал правитель. Мясорубка, скажет один читатель. Муравейник, добавит другой читатель. Всё ради процветания всего, без проявлений нужд отдельных представителей человечества. Даже Чека действовал согласно сложившимся условиям, готовый погибнуть, если к тому принудят обстоятельства.
Не хотел быть причастным к большинству лишь главный герой произведения — Мопо. Он бежал от тяжёлой доли, попал в распоряжение Чеки и отныне стал вариться в котле, покуда не отобьётся от напастей, чтобы однажды рассказать некоему европейцу историю жизни. Так начинается сказание, озаглавленное Хаггардом в честь дочери знахаря, красавицы Нады, появляющейся на страницах чрезмерно малое количество раз. Не в названии дело! Мопо сумеет сохранить ребёнка Чеки (царь убивал отпрысков, боясь быть свергнутым), вырастит его под видом своего и на том сложится добрая часть повествования. Пускай и не в том духе, как того мог ожидать читатель.
Что особенного в поведении действующих лиц? Они упиваются значимостью, непомерно гордые, решают проблемы с помощью присущего каждому из них авторитета. Такое поведение следует чуть ли не взять в качестве примера, говоря, как в действительности надо жить. За столь высоко возведённой ими стеной бьётся такое же решительное сердце и так же высоко парит душа. Обмана на страницах произведения нет. Нет места в «Наде» и подлостям. Желаемое открыто высказывается, либо замалчивается, ежели тому есть оправданная необходимость. Хитрить в такой манере получается у одного Мопо, привыкшего скрывать правду и сдерживать сердце, смиряя трепет души.
Африка велика. Рассказать о нравах всех племён невозможно. Стоит ли верить Хаггарду, когда он делится с читателем подробностями жизни тех, кто не пережил годы правления Чеки? Читатель сам решит. Были ли племена, выбирающие правителей с помощью борьбы за обладание дубиной или прочие… Представленного на страницах не перечесть. Оно и не требуется. Прикоснуться к жизни зулусов в «Наде», значит пережить погружение в мир непередаваемых эмоциями страстей.
Автор: Константин Трунин