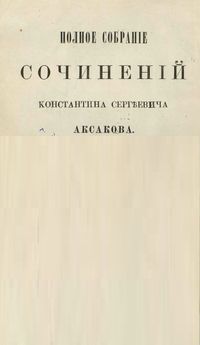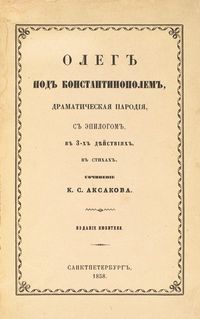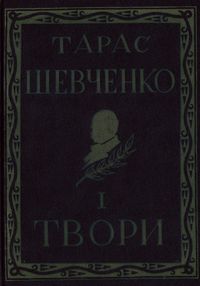Иван Тургенев «Муму» (1852)
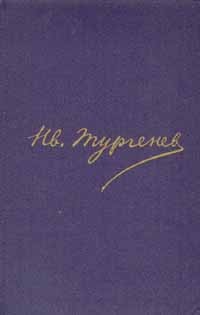
Каких только аллюзий не находили в «Муму». Одна из них была поистине эпического размаха, где под главным героем повествования — Герасимом — понимался весь русский народ. Но и без аллюзий у рассказа нашлись противники в виде цензоров, увидевших в тексте для всех очевидное — самодурство помещиков. Закладывал ли в «Муму» некий смысл сам Тургенев? Или он просто изложил историю, которую ему рассказали очевидцы? Будучи под царским требованием находиться в родовом поместье, Иван нашёл интересную тему для повествования, им и реализованную. Поэтому нужно оставить домыслы в стороне, сконцентрировав внимание на содержании, допуская очевидное — кое в чём Тургенев всё-таки позволил себе вольности, домыслив обстоятельства, о которых никто не мог доподлинно знать.
Рассказываемая история не имеет привязки сугубо к Муму. Главным героем повествования был и остаётся Герасим — дворник в московском поместье, некогда крестьянин-пахарь. Будучи глухонемым, оставаясь нелюдимым, Герасим пытался найти существо, способное быть предметом его радостей. Не так важно, кто за таковое будет принят, лишь бы оно позволяло о себе заботиться. Герасим вполне мог опекать дерево, либо заботливо относиться к метле, но для повествования о горькой судьбе такое не подойдёт. Гораздо лучше показать на примере несостоявшейся любви. А полюбил Герасим прачку из дворни, за которую решил вступаться всякий раз. И не быть у истории продолжения, не вмешайся в дело посторонние, по чьей воле девушку выдали за другого, тогда как Герасиму пришлось проглотить обиду. Являясь человеком впечатлительным, он глубоко уйдёт в себя, испытывая сильные переживания. Герасим не станет крушить окружающую обстановку, показав умение соглашаться с ниспосланным судьбой. И на девушек Герасим вовсе более не обращал внимания.
Как быть? Предмета для заботы у него так и не появлялось. Он не нашёл дерево для опеки, к той же метле относился с прежней чёрствостью, словно сердце обратилось в камень. Никто не мог от него ничего дознаться — нелюдимость его не покидала. Всё изменилось, стоило подобрать собачку, кого и стал Герасим с той поры опекать. Будь собака спокойного нрава, молчаливая и без характера, склонного к проказам, тогда быть истории опять без продолжения. Но собака беспокоила барыню, уставшую от её присутствия во дворе. Дворня на свой лад поняла волю хозяйки, заставив Герасима избавиться от собаки. И вот уже из понимания этого обстоятельства исходит необходимость трактовать произведение.
Тургенев не обличал помещиков в самодурстве. Он описал дворянские привычки в том виде, в каком они присущи большинству людей, наделённых избыточным количеством средств. И не надо находить в тексте того, к чему Иван не побуждал. Суть повествования свелась к тому, что Герасим в очередной раз не захотел вступать в противоречие с дворней, предпочтя поступить так, как от него требуют. Если появилась необходимость избавиться от собаки, это он сделает собственными руками. Потому Герасим утопит Муму, а Тургенев опишет процесс утопления с максимальной отрешённостью, словно сам являлся глухонемым. Не будет даже всплеска воды, словно собаки и не было в лодке.
Читателю важно понять, как Герасим отнёсся к необходимости избавления от Муму, какие действия предпринял впоследствии. Действительно ли он мог сбежать со двора, добраться до родной деревни и там пропасть для мира окончательно? Ведь Герасима толком не искали, и прожил он остаток жизни, более никем не потревоженный. Просто так сложились обстоятельства… вот и всё.
Автор: Константин Трунин