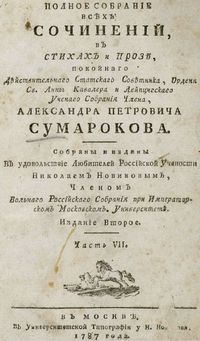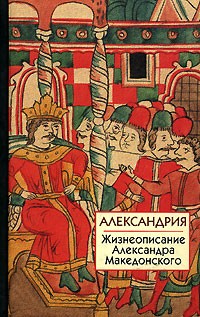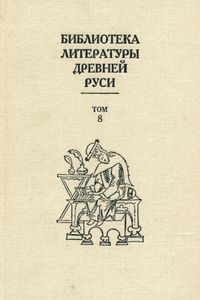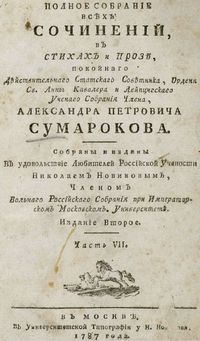
Таков Сумароков, таковы притчи, его умом рождённые, к его сожалению растаять в безвестности обречённые. Померкнет слава творца мудрости в стихах, потерпит многолетний труд Сумарокова крах. Он пытался, особо с формой не играя, создавал и тому был рад, себя тем на подвиги новые подготовляя. Впереди ещё порядочно притч, хватило бы сил их все объять, для того надо усилия читателю прилагать.
Сразу к делу. Пьяных сторонится ли кто-нибудь? Видя выпивших, не проще ли с их пути свернуть? Всякое возможно, тому притча «Сатир и гнусные люди» в пример. Она не о том, как важно придерживаться хороших манер. Высказал пьяному в лицо думы свои сатир, испортил собравшимся радость и пир. За то его без лишних раздумий помяли. Вины за то пьяные за собой никакой не знали. Что советует Сумароков? Говорит: молча мимо проходить. Совет верный! Здоровья трезвому иначе на долго не сможет хватить.
Притча «Птаха и дочь её» — мудрость ещё одна. Про мышление птиц повествует она. Случилось хозяину поля задаться желанием срезать зерно. Зачем ждать? Когда оно созрело давно. Планы есть, он думает то сделать сам, но ленится, обращаясь за помощью к друзьям. Птахи улетать не спешили, ибо известно им — никто зерно не пожнёт, пока хозяина рука сама не пройдётся по ним.
Мудрость третья — про бахвальство она, повествует про, как пению волк обучал козла. «Волк и козлёнок» — название притчи той, по её сюжету по лесу раздался волчий вой. Козёл дрожал, не смея отвечать. А волк не знал — ему пора бежать. Ведь слышен вой — собаки взяли след, не козлёнок пойдёт волку на обед! Прослышали охотники вой волка и за собаками пошли, посему, коли дело задумал — делай, не жди.
Мудрость важнее прочих — притча «Соловей и кошка». Послушай её читатель — будет тебе за то золотая ложка. Как-то пела кошка песни соловью, из клетки улететь побуждая. Поверил тому соловей, правды всей не зная. Ему говорили: нельзя в клетке томиться. Его убеждали: нельзя чужой воле покориться. И послушал соловей кошку, клетку покинув, свободу обретя. Да только оказался он в желудке кошки, ничего за клеткой не найдя. Посему, читатель, знай, глаза и уши никогда не закрывай! Поверь, иная клетка не хуже свободы, потому как иная свобода — те же самые невзгоды.
Но кошки не все злы: скажет читатель. Тогда притча «Кот и мыши» покажет, каков истинный из кота доброжелатель. Не суть в том — кот или кошка. Подумай основательнее, читатель, немножко. Под сим зверем всякий хитрец скрывается, и даже тот, что вполне законно за счёт других побирается. Будет драть три шкуры, покоя не умея найти. Такому верить? Уже лучше сразу в иной мир отойти. Не верь! И расскажи о том другим. Глядишь, не мышью, а человеком разумным больше станет одним.
Бывает всякое, «Пармский сыр» увидала лиса на колодца дне. Задумала спрыгнуть, забрать сыр сей себе. А он ли там был, или то всего лишь отражение луны? В любом случае, сидеть лисе на дне, кончая там же свои дни. Благо волк пробегал, и он обманут был. Эх, читатель себе, наверное, всякое развитие вообразил. Отнюдь, устроил Сумароков отдых от мудрых стихов. Приём этот в поэзии никак не нов.
Ясно дело, «Волчонок собакою» будет пока мал, но когда вырастет, в той же мере ясно будет — кто овец убивал. О том же притча «Волк пастухов друг», если кто с волками дружбу решит завести вдруг. «Пёс, не терпящий нападения» продолжит тему, ведь пёс — это зверь, который смирен — этому верь. До той поры в собаке спит натура волка, покуда не собьёт её обидою кто с толка, тогда смиренное создание покажет прыть, будет стараться обидчика укусить. Всё это — природа. С этим не сладишь. Притчей «Война за бабки» ничего не поправишь. Кратко сказано — за детей отцы ответят, а за отцов ответят соседи. Почему же на мысль приходят шатуны-медведи? Не накопили жиру, ежели доказать пытаются правду, на силу ссылаясь. Со стороны видно, делают так, себя только пугаясь.
На новый лад притча о слабости других сложена, называется «Пени Адаму и Еве» она. Будто за грехи Евы человек вынужден страдать, изгнанный из рая — муки претерпевать. Так ли? Давайте представим иначе. Отправим мужика, где накормят его побогаче. Наестся так, что не сможет из-за стола встать, но будет ещё он кое о чём обязательно знать. Есть блюдо одно, скрытое от взора, его не открывать, другого нет уговора. Как поступит мужик? Любопытство победит. Так разве грех Евы он справедливо винит?
Вообще, человек — создание странное, выше нужного требует он. Вечно стенает так, будто живёт и на страдания обречён. Жара не нравится ему, и холод не по нраву. Желает питаться вкусно, и не есть отраву. Работать ленится, комфорт ему подай. Он и Богу скажет: «Новый календарь» создай, хочу без хлопот до скончания дней жить, никогда не горевать, обязательно сытым быть. Сам к тому ничего не в силах предложить человек, о чём неизменно выражает недовольство который уж век.
Человек — не божество, скорее — осёл. Он — идол бога, подобием его быть предпочёл. Он вершит дела, мня за собою право на то, думая, будто он наделённое таким правом существо. А по сути, обратиться к притче «Надутый гордостью осёл» необходимо, дабы увидеть, насколько окружающее оказывается мнимо. Тащил осёл идола, отбивали люди идолу почёт, что видел осёл, и никак того не поймёт, почему он тащит телегу, а люди кланяются ему, значит, такой почёт отдают ослу одному. Так и человек, которому некому по спине дать плетей, потому он считает, что самый достойный почитания из людей.
Такое свойственно, есть на то разумный ответ. Притчей «По трудам на покой» увидим, почему иного выбора нет. С малых лет человеку прощаются его дела, и мать от злых поступков его не уберегла. Из-за попустительства, когда дозволено всё было, выросло из ребёнка такое, что бы лучше в младенчестве бы и убило. Не порицаемый за проступки, выгораживаемый каждый раз, он по кривому пути пойдёт, и будет вором или кем похуже. Это — раз! Во-вторых, обвинит во всём он не общество, желающее его наказать, винить он будет как раз отца и мать. Значит, ребёнок должен знать о плохом, ибо иначе как плохое понять сможет он? Если его от плохого с малых лет не отвращать, будет он злым умыслом себя постоянно противным питать.
Вот пример — притча «Секира». У мужика топор в реку упал. И мужик склонился у берега: о топоре зарыдал. Слёзы ронял, покуда не сжалились над ним боги, взамен дали топор из золота, ведь они к страдающим не строги. Но мужик отказался. Не принял и топор из серебра. Ему нужен тот, что река забрала. И получил топор, который обронил, за что мужик богов возблагодарил. То видел другой мужик, о наживе смекнувший. Топор вроде обронил, может спьяну уснувший. Стал просить богов о золотом топоре, ибо такой желает, да отчего-то именно золотой никто и не предлагает. От такого мужика боги отвернулись, противен он им, пусть остаётся вовсе без топора, коли жадностью полним.
Всякому даётся по заслугам его. Больше не возьмёшь, иначе всё потеряешь. С притчей «Раздел» о том скорее то понимать станешь. Случилась война, кою устроили лев, осёл и лисица, после решившие за счёт поверженных обогатиться. Осёл пожелал поделить на три части добытое в бою, из-за чего он быстро сложил голову свою. Льву не понравились суждения осла, о чём лисица сразу поняла. Горсточки добычи ей вполне хватило. Почему? Смерть осла её от богатств отвратила.
Есть и такое, чему надо особенно учиться. Как знать, в жизни разное может пригодиться. В притче «Два оленя» случилось оленям лужу широкую встретить, порешили преодолеть её, чистыми противоположный берег встретить. Первый олень опасался измараться, шёл он бочком, но всё же слегка вымазался грязью в старании таком. Второй олень наскоком лужу брал, по уши он погрузился, в луже он утопал, и разом выпрыгнул, мокрый весьма, а самое удивительное — шкура его идеально чиста.
Притча «Две крысы» — она про кабак, там одна крыса всё не напьётся никак. А вот притча «Змеи голова и хвост» покажет интересное наблюдение, очень полезное всякому человеку мнение. Разве не замечал никто, как мнит он о чём-то, будто мастер на все руки? Он и в политике мастак, да отчего-то плохо гладит брюки. Он готов армии водить, побед добиваясь, самому себе в том деле без сомнений вверяясь. Но вот яркое сравнение. Не о солдате, генералом мнящем себя. Она о змее, вернее о том, как голова оказалась в районе хвоста. Повёл хвост змею, не различая дороги, не зная ничего, не думая просить подмоги. Ясно должно быть, чем закончится путь для сей светлой головы. К сожалению, омрачившийся гибелью самой змеи.
Не мечтами нужно жить, не снам доверять, надо силы стараться соизмерять. Мало ли мыслей приходит человеку на ум, когда нет в нём веселья, когда он угрюм. Притча «Счастье и сон» пояснит ход мыслей сих, из довольно самых возможно простых. Пример на тему даётся, притчей «Подушка и кафтан» он зовётся. Кафтан перед подушкой храбрился, хозяин с ним недавно напился, деньгами сыпал, не скупился на траты, бедам не бывать, коли насколько они с хозяином богаты. Тому подушка причину знает лучше, ибо она еженощно внимает того богача слезам. Жизнь на широкую ногу понятна, только близок к краху хозяин, что он понимает и сам. Стоит ли радоваться, ежели настолько печально всё? Но каждый видит, что желает видеть, больше не видя ничего.
Вернёмся к ослам, они довольно глупы в Сумарокова притчах. Ещё один «Высокомерный осёл» попался. Отчего-то лев боялся крика петуха. Неизвестно почему, но лев его страшно боялся. Случилось охотиться, лев настиг осла, как раз раздался тогда крик петуха. Задрожал лев, отступил и покорно жертву отпустил. Разумеется, осёл невообразимое о себе возомнил. Стал кричать на льва, преследовал и стращал, покуда петух кричать не перестал. Глупец не ведал, бахвалился чрез меры, ушёл бы сразу, остались бы его кости целы.
Столь же и «Высокомерная муха» в притче есть. Она задумала на воз тяжёлый сесть. Лошак с трудом тот воз тащил, не хватало ему для того сил. Не груз тому причина, муха точно знала, она себя тяжёлой представляла. Узок мир мухи — не будем за то муху судить, ей того не докажешь, её в том всё равно не убедить.
Иного высокомерства заяц о черепахе был, о чём Сумароков притчу «Заяц и черепаха» сложил. Пошла черепаха в Москву, о чём заяц проведал, решив перегнать, а пока он по делам своим бегал. Прошло три месяца, и только тогда тронулся заяц в путь, думая, сможет догнать он черепаху как-нибудь. Да опоздал, черепаха уже в Москве, пускай медленно, но сделала она на благо себе. Посему, ясно итак, не надо спешить, кто спешит — не успеет никак.
На мир всегда нужна глазами смотреть, оценивать возможности и в виду скрытые от внимания обстоятельства иметь. Допустим, как в притче «Обезьяна и медведь» забралась обезьяна на дерево высокое, обозрела всё вокруг, приметив даже самое далёкое. Но стоило вниз посмотреть, смех её пробрал, медведь стался малым, он ей её же хвост напоминал. Смеялась в голос, потешалась, а когда спустилась с дерева, тогда обезьяне и досталось. Мал медведь, пока далеко, а ближе окажется, будет крайне тяжело.
Не смеяться, хвалить нужно. Да не хвалиться, именно хвалить. Надо это запомнить, дабы не забыть. Есть притча «Соловей и кукушка», в ней важная суть, стоит её запомнить, может поможет умом где блеснуть. Случилось похвалиться кукушке, что повторяют все в лесу её кукушки. Кукукают, словно нравится им эта трель. Хочешь в то верь, хочешь не верь. Соловью никто его песню не вторит, значит пение соловья ничего не стоит. Глупа кукушка или нет, соловей не сможет дать ей вразумительный ответ. Пусть не поют, ибо песнь его сложна, а трель кукушки чрезмерно легка.
Не дашь всему ясного разумения. Разного рода бывают впечатления. Вековечных дилемм с избытком хватает. Не решаемых, их всяких знает. Что-то мнится не так, как оно должно восприниматься, ведь вонью от клопа не станут люди восхищаться, им ближе запах розы. Так сложилось. В притче «Ослище и кобыла» похожее случилось. Понравился кобыле старенький осёл, чему тот объяснения так и не нашёл. Он слаб, морщинист, от него воняет… Так чем он тогда кобылу пленяет?
Притча «Ненадобное сено» про излюбленную привычку собак, что лают без причины, ибо нравится им так. Вроде охраняют, не желая охранять, зато шум поднимают, словно кто старался у них охраняемое отнять. Природа собаки такова. В притче «Арап» схожий смысл и похожие слова. Сколько не отмывай в бане чёрного кожей человека: не отмоешь. Скорее кожу сдерёшь, но чёрный цвет не скроешь. И не исправляй, коли тебе не по нраву, всё равно не найдёшь на своё недовольство управу. Не нравится авторам критика, не любит красавица отражение в зеркале, овцам волк противным кажется. Разных примеров привести можно, если кто продолжать список этот отважится.
Притча «Лекарский слуга», а сути будто и нет. Зато в притче «Порча языка» скрыт долгожданный ответ. Послушайте, жил-был пёс, он лаял подобно псам, и вот он ушёл, стал бродить по лесам. Прибился к медведям, стал среди них жить, собачий язык на медвежий сумел он сменить. Бродил после, прибился к волкам. По-волчьи научился он выть там. Вернувшись домой, решил порядки новые ввести, ревя и воя круглые дни. Его собаки отказывались понимать, не знали они, зачем им чужие порядки соблюдать. Сей пёс презираем оказался, вскоре и с жизнью расстался. Понятно о чём Сумароков намекал, он так галломанов притчей пугал.
Автор: Константин Трунин
» Читать далее