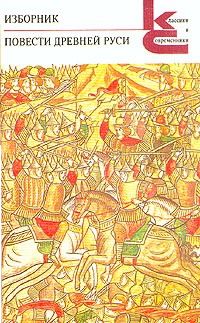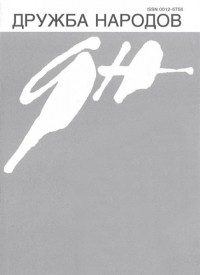Михаил Булгаков «Записки на манжетах» (1923)
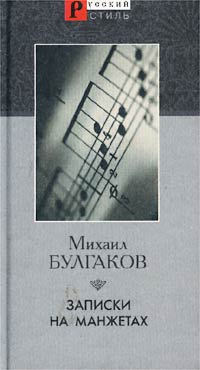
Трагедия человека может быть только в одном, если у него нет возможности говорить то, что он думает, какими бы его мысли не были. Чаще ограничения порождаются моральными установками общества, отсеивая таким образом бред воспалённого ума душевнобольных людей. Но случается и так, что ограничения возводятся непосредственно государством, в том числе и его гражданами, принимающими суть политики, невольно становясь инструментом в руках власти. Вот тут как раз и возникает ранее обозначенная трагедия человека. Тяжело осознавать, что за правду наказывают. Однако, за правду наказывают.
Казалось бы, «давить» на больную мозоль полезно — излечение наступит быстрее. Но сие лечение со стороны властей выглядит нецелесообразным, поскольку это находит расхождение с интересами избранного круга людей. Допустим, живя в Советском государстве, хочешь оное укорить, причём обоснованно, то насколько допустимо говорить о твоей виновности в данном случае? Современники будут осуждать, лишь потомки дадут правильную интерпретацию, хотя от радетелей за правду прежних поколений придётся продолжать выслушивать поношения.
Так или иначе, Булгаков с удовольствием покинул бы Советское государство, будь у него наличность, коей не было. О том он рассказал в цикле заметок «Записки на манжетах», отразив на страницах частично свою жизнь. Но вот герой записок заработал сто тысяч рублей и направил усилия на осуществление мечты. Что помешало на этот раз? Бдительность стражей порядка, распознавших в драматурге подозрительную личность. Что тут скажешь… Если подозрителен, значит должны с такими разбираться прежде свои.
Иное содержание у записок в части, описывающей похождения героя в Москве. Там, в столице государства, с литературой дело обстояло хуже некуда. Кому-то требовалось задавать направление. А кому? Некому. Почему бы не занять пустоту собой? Обязательно следует занять. И вот герой записок погружается в будни литературной организации, благое назначение которой впору подвергнуть сомнению.
Почему подвергнуть сомнению? Если организация существует, чтобы поддерживать не работников, а обслуживающий их персонал: грош — цена такой организации. Между прочим, столетие минуло, ничего с той поры не поменялось. Как существовали подобные организации, так и продолжают существовать. А те, кто осуществляет главную деятельность, ради которой эта организация существует, уподоблены муравьям-строителям, за счёт чьего труда нагуливают жир другие. Теперь в таком духе позволительно говорить. На правду никто не обижается. Во времена Булгакова ситуация к схожему отношению не располагала и могла привести к печальным последствиям.
Описываемая Булгаковым литературная организация существует, кажется, ради бухгалтерии и кадровиков. Сим специалистам полагается вести учёт работников, выплачивать им заработную плату и выполнять прочие функции. Разумеется, организация, существующая трудом литераторов, самих литераторов не ценит. Пусть организация будет ликвидирована — пострадают лишь литераторы. Прежде поддерживавший её персонал продолжит заниматься тем же самым, снова становясь основным костяком тех же литературных объединений, в той же мере оставляя литераторов с носом.
Читатель скажет — это есть классика бюрократизма. И читатель будет прав. Бюрократизм воплощает собой абсурд, каким бы логичным он не выглядел со стороны. Вывод из «Записок на манжетах» допустимо вынести любой, либо не выносить его вовсе. Булгаков рассказал о многом, не сказав о чём-то определённом более прочего. Читатель сам определяет, какая тема ему важнее, от неё он и будет отталкиваться. Если ему ближе тема эмиграции, значит стоит уделить внимание первой части, если интересно ещё раз посмотреть на тяготы от бюрократических затруднений, то внимание сосредоточится на второй части.
Автор: Константин Трунин