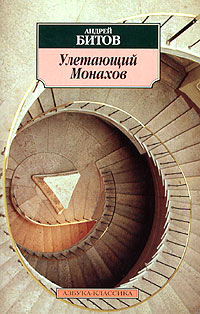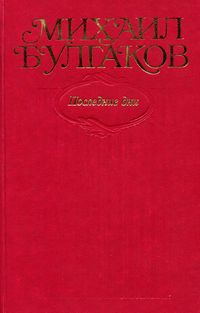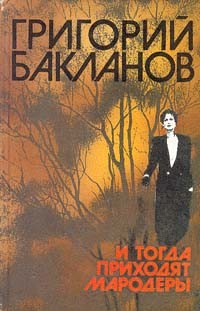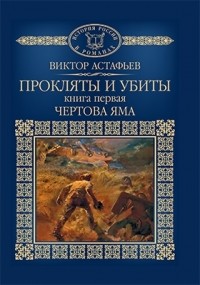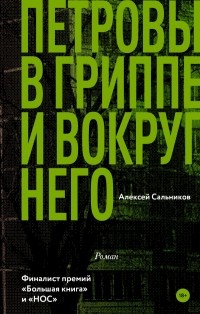Максим Горький «Макар Чудра» (1892)

Иди своей жизнью, и дай другим идти жизнью, отличной от твоей. Таковым оказался мысленный посыл Алексея Пешкова, поставившего подпись под первым опубликованным рассказом придуманным им псевдонимом М. Горький. Иди своей жизнью, и дай другим идти жизнью, отличной от твоей: девиз, достойный ожидающих Россию перемен. Не мешайте людям существовать, навязывая для того определённые условия. Берите пример с цыган, вольного народа, оттого и бродячего, что никогда, нигде и ни перед кем они не принимали обязательств. Сядь и послушай, читатель, как прожил писатель Максим Горький, чьи герои брались выполнять обязательства Прометея, готовые страдать, кому не жалко лишиться всего ценного.
Жить нужно так, чтобы никому не причинять зла. Но и к тебе не могут применять ограничивающих твои права мер. Так говорят все, и никто того не стремится соблюдать. Скажут тебе не брать чужого, тогда как сами брать чужое не стесняются. Скажут жить во смирении, сами в смирении не живя. Понадеются на кого-то, будто не способны о себе позаботиться. Демонстративно покажут готовность к лишениям, желая по окончании мучений выбор самых лучших благ душе истерзанной. Нет такого у цыган. Если кто из них и попросит, то не обещая одарить в ответ.
Но вот Макар Чудра — старый цыган. Он жил ветру подобный, носимый всюду, куда ему хотелось. Теперь он остановился, готовый поведать о прошлом. Рассказать, какие люди прежде жили, делами которых он восхищался. Ведь нет ничего прекраснее молодости, времени прекрасного. Не отягощены молодые заботами, для них новый день — просто день. Не смотрят они назад, нет нужды им задумываться о будущем. В их крови любовь, страсть сжигает им сердца, и никому они не уступят, когда задумают обладать им потребным. И в том-то печаль цыган, слишком свободолюбивых, чтобы даже позволять любить себя. Как же не истребили цыгане друг друга с таким к жизни отношением?
Знает Макар историю про Лойко и Радду. Оба влюблены взаимно. Им бы под солнцем ходить рука об руку, под луною не знать расставания, вольной волей дышать, находя в том упоение. Кто тому помешает, когда молодые в силах уверены? Людские предрассудки скажутся. Где это видано, чтобы мужчина женщине ноги прилюдно целовал и клялся быть у неё в услужении? Цыганки нрав от нрава цыган-мужчин не отличается. Не ей мужу кланяться, не бывать такому, ибо лучше предпочесть жизни лишение. Остаётся одно, чему суждено случиться. Мог Горький дать счастье молодым, усмирив их свободолюбие. Да нет права человеку пред другими унижаться, какие бы чувства он не испытывал.
О цыганах притча поведана? Отнюдь. О вольных людях Горький историю рассказал, прикрыв аллегорией. В борьбе разворачивающейся погибнет каждый, вставший на тропу сопротивления. Требовалось малое — дать каждому по потребностям. Пусть цыгане кочуют табором — их на то право. Пусть рабочие работают — их на то право. Пусть чиновники управляют — право на то они имеют. Пусть царь правит — для того он рождён. И писатели пусть пишут о чём вздумается — воля их на то. То не анархия, хотя так и думается. То — выбор людей будущего, должных заявить о необходимости человека на человеческое к нему отношение. Всякая власть, какой не назови её — построена в интересах избранных, ими подобными для того выбранных. Республика ли, демократия ли: без разницы.
Наслушался Горький цыган, ими проникнутый. И понял правду их, сделав правдой своею. И не жалко ему дать смерть всякому, поскольку человек и на смерть имеет право, если истинно волен он. Но нет такой воли, покуда общество боится прав для себя обретения.
Автор: Константин Трунин