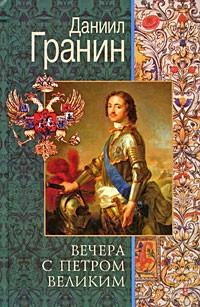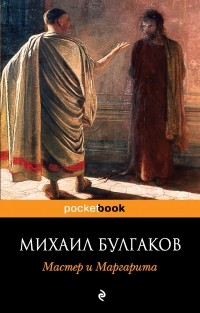Вацлав Михальский «Весна в Карфагене» (2001)
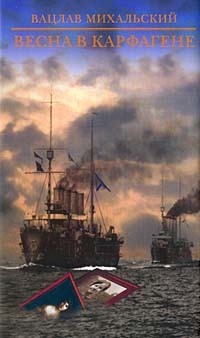
Лучшей доли не бывает — всякая доля плоха в той или иной степени. Её восприятие зависит от способности согласиться с ниспосылаемым судьбой. Принято думать, гражданская война принесла для России горе. Но разве когда-то россияне жили вне обоюдного противостояния? С древнейших времён люди внутри очерченных за Россией границ ходят по острию ножа друг к другу. Была ли Русь — случалась взаимная резня. Будучи под монголами — били в спину не стесняясь. И даже достигнув благополучия при Иване Великом, уже при Иване Грозном потонули в собственной крови. Не говоря уже о Смутном времени, а также закабалении при Романовых правителями религии, а верхами — низов. Всяк всякому приходился за врага, пока не случилось развала монархии. И тогда Россия продолжила жить во взаимной ненависти. Да не о России тут следовало вести речь. Человек, что волк среди волков. Он такой же волк, как окружающие его волки. Ему не видать лучшей доли ни при социалистическом режиме сталинской диктатуры, ни при колониальном строе Третьей Французской республики. Потому и показал Михальский судьбы одной семьи при различных обстоятельствах. Счастье ведь всегда возможно — нужно его лишь хотеть, не отказываясь видеть благое при самом чёрном осознании действительности.
Чем не пример, представленная вниманию мать-дворянка? Он осталась одна в стране советов на руках с малолетней дочерью. Но жить, ощущая себя побеждённой, она не желала. Нет, не срывался ропот с её уст. Она хранила молчание, став для всех представителем этноса малороссов. Зная ворох языков, делала вид, будто кроме украинского ничего более не разумеет, интуитивно понимая лишь говор русских. Счастье она видела в становлении дочери. И дочь ничего не знала о прошлом, храня твёрдую уверенность в справедливости происходящего. Ей не говорили о былом — о величии павшей империи. Наоборот, Советский Союз — это то государство, где каждому обеспечен почёт и уважение. И Михальский в этом не лукавил. Не случится пока ещё травли всесоюзного масштаба, не смешают советских граждан с грязью. Есть чему продолжать радоваться. Это одна сторона.
Другая сторона — французский Тунис. К его берегам отбыли корабли под руководством Врангеля. Среди находящихся на борту — девочка-сирота. Она, на минутку нужно задуматься, дочь той ранее упомянутой дворянки. Сойдя с берега России, произошло семейное расставание едва ли не навсегда. И ведь должна быть та девочка счастливой, коли избежала безумия сограждан, согласившихся жить под ожиданием наступления коммунизма. Но она будет взрослеть, и будет настолько же счастливой, как её сестра в Советском Союзе. Она станет успешной, легко взбираясь по карьерной лестнице. И ей было невдомёк, в лапы каких волков она изначально попала. Нет, не радостными были распахнутые объятия французов, согласившихся принять беженцев. Отнюдь, вне людского внимания оказалась суровая реальность — русских приняли, чтобы продать всё ими привезённое. И даже корабли пойдут на слом, ибо такова цена за право жить среди волков, выдающих себя за людей.
Так чья доля лучше? Девочки, оставшейся в Советском Союзе, должной вскоре столкнуться с оскалом жизни? Или её сестры, столкнувшейся с оскалом иного рода, вынужденная принять необходимость смирения? Они росли среди волков, и начинают понимать волчью суть человечества, и вот-вот уже сами станут волками, ибо ежели откажешься бороться за своё мнение, тогда будешь забит: хорошо, если просто останешься в живых. Как будут развиваться события дальше? Михальский не остановился на «Весне в Карфагене», он продолжил писать о судьбе русской эмиграции первой волны.
Автор: Константин Трунин