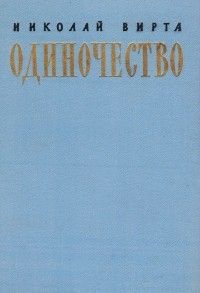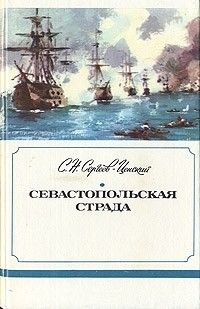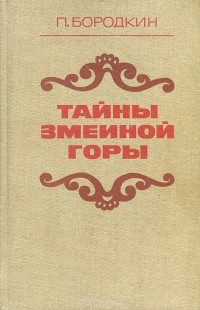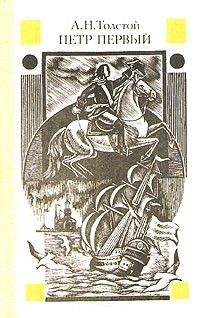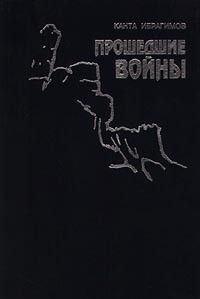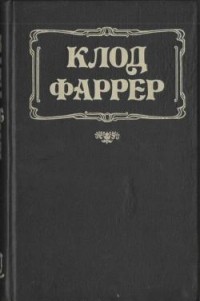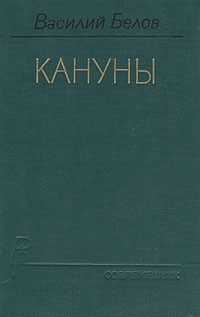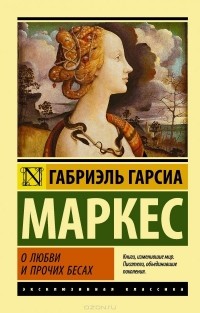Василий Белов «Год великого перелома» (1989-1991)
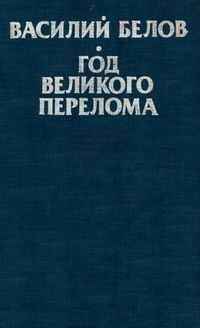
Как начать так, чтобы заинтересовать читателя? Согласно заветам Чернышевского: требуется удивлять! Потому нет ничего лучше, чем с первых строк представить вниманию фигуру Сталина, опечаленную складывающимся положением дел. Время шло с двадцатых на тридцатые годы, а гордиться нечем. Россия лежала в руинах, союзные республики испытывали негативное воздействие советской власти. Невзирая на это, Сталин измыслил идею объявить о свершившемся великом переломе. Рядовой житель узнавал, что, оказывается, улучшения должны быть заметны повсеместно. В каждой сфере отмечался рост. Потому и обозначился год великого перелома, пусть и должный обязательно восприниматься с сомнением. Однако, проникнувшись успехом, тот рядовой житель начинал трудиться продуктивнее, стремясь становиться всё лучше и лучше. Оттого и начнут вскоре появляться стахановцы. Пока же, для будущих свершений требовалось задействовать человеческий ресурс. Где его взять? Страна переполнится лагерями. Кажется, читатель заинтересовался. Значит далее можно писать о чём угодно.
Надеяться на сознательность граждан нет необходимости. Всё следует насаждать силой. Крестьяне не могут быть разумны, ибо в их среде кулачество и сосредоточено. Так ли? Склонный к труду на земле найдёт возможность им заниматься всюду. Хоть сошли его на север, хоть на целину. Как бы не думали о точке зрения Сталина, предпринимаемые им меры меняли мировоззрение людей, с истовым желанием шедших на требуемые от них жертвы. В результате Советский Союз пережил массовые миграции населения, чего добровольно в цивилизованном обществе не происходит. Но Белов обратился к другой теме. Его заинтересовала каторжная судьба заключённых. Ведь без дела в лагерях не сидели, обязательно занимаясь полезным для развития определённого региона трудом. Что же, тому не способствовали комфортные условия существования, посему естественно читателю показываются тяготы вроде вшей, антисанитарии и тесноты.
Только зачем поднимать страну, бывшую и до того первой? Разве мало добывалось хлеба? Так зачем говорить, будто теперь его стало мало? Население должно жить в иной действительности, нежели есть. Пусть крестьянин трудится, создаёт ещё больше — излишки найдут применение. Главное сохранять у людей стремление к достижению лучшего. Ежели представить, что всё отлично, то чем тогда мотивировать? Белов мог и не утверждать, будто Россия после революции оставалась на ведущих позициях. Отнюдь, именно по той причине Сталин на первых страницах произведения и пребывал в унынии, не умея сладить с продолжавшимся спадом. Белов, в свою очередь, осуждал свершившееся, отнявшее у людей ими достигнутое. Впрочем, без рассмотрения нюансов таковой разговор ничего не значит.
И всё же, как бы Белов не описывал былое, у читателя создаётся неизменное ощущение идиллии. Сталин прослыл кровавым диктатором, уничтожавшим население, одновременно с тем добиваясь для страны могущества. Кажется странным так рассуждать, однако, требовалось сперва изменить как раз мировоззрение людей, поскольку иначе ничего бы не удалось добиться. Не по той ли причине советский гражданин, хотя бы в год великого перелома, стал восприниматься энтузиастом, готовым поступать сугубо на благо государства, забыв о личных предпочтениях? А кто не хотел по доброй воле, того заставляли силой. Вот и потонула страна в крови. Ужасная получалась идиллия. Но! Так ли плохо жить в плохих условиях и в великой стране, нежели жить так же плохо и в плохих условиях, но в стране, лишь намекающей на своё величие? Надо понимать и то, что начинал и продолжал писать Белов произведение в не менее зримый год великого перелома, но уже с утратой былых ценностей.
Автор: Константин Трунин