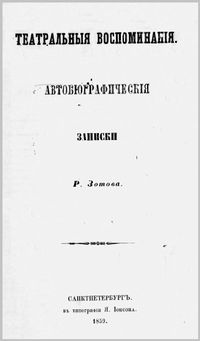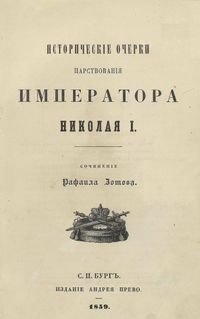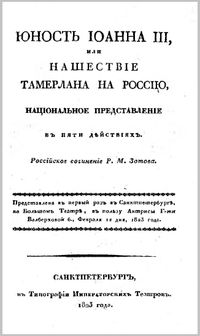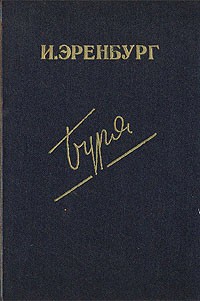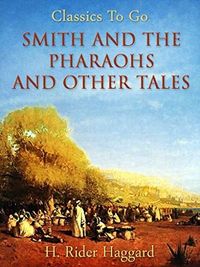Василий Жуковский «Пери и Ангел» (1821)
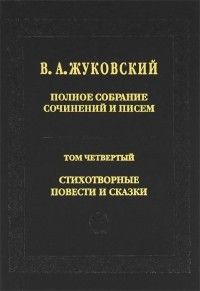
Восточный мотив — эко диво. Европа под оный мотив видела грёзы. Думы поэтов той поры словно затопило, проливали о пустом тогда слёзы. Было бы к чему, разделилось мнение у людей, в России негативно порыв сей воспринимали. Ладно бы, в стиле Оссиана — выдумка ради игривых затей, но в том же духе о востоке, чего толком не понимали… В Англии Томас Мур сочинил поэму «Лалла Рук», взбудоражив умы. Эко диво — восточный мотив. Да были строчки до незамысловатости просты, ничего сверх должного не сообщив. Жуковский решил до русскоязычного читателя донести поэмы часть, взяв сомнительного содержания эпизод, даже Пушкин будет Василия после ругать, подобной безвкусицы Александр стерпеть не мог.
Говорить за Мура не станем, не в Жуковского переводе точно следует оценку давать. Стремление Василия изменять содержание знаем, любил он стих под себя изменять. Потому, где Жуковский брался за перемену смысла или иначе прорабатывал сюжет, там он и считается автором, иного выбора у читателя нет, Василия ведь следует нам назвать нарратором.
Кому нужен в поэзии восток, тот обратится к персидским стихам, арабские на заметку возьмёт творения. Довольно через века досталось той поэзии нам, переведены умело те стихотворения. Что до Мура, особенно в Жуковского переводе, понятен далёкий от европейца антураж, для современника он был в моде, разбавлял застой античности сей эпатаж. Устал читатель внимать похождениям героев из греческих мифов, хотелось испытать новых ощущений, осознать присутствие в мире прочих смыслов, должен быть и среди европейцев на восточный мотив гений.
Жуковский говорил приятно, слагал он строки на лету, рифмовать получалось складно, приятно было самому. Да вот проблема, можно принять за без раздумий сказанное. Такая уж она — восточная тема, любое слово бросаешь на ветер, ничем не доказанное. Важен антураж, волшебные слова, прочее на общем фоне никого не сможет возмутить, не возропщет на поэта молва, предпочтёт мимо глаз и ушей пропустить.
Вот легенда о пери — как звали девушек, застывших между небом и землёй. Закрылись перед ними рая двери, нет пути им обратно домой. Они живут на радуги цветах, купаются в белизне облаков, игривый смех застыл на устах, ждут пери воли богов. Таково понимание Мура, Жуковским сообщаемое, так нужно суть пери понимать — создание злобу мира принимаемое, стремящееся к раю павших доставлять. Не те пери, каковые по сказам поэтов востока знакомы, эпитетом сим наделявших красавиц, сводящих с ума, служивших для мужчин предметом утраты истомы, источником зарождения в порывах огня. Мур с мифологической сути не сходил, не думая показать земное существо, и Жуковский с тем же ощущением действо подносил, стараясь сделать так, как не сможет никто.
К кому же пери обратится? Какому воину воздаст почёт? Юноше, что подвигом гордится, которым в памяти людей живёт. Против тирана выступил юнец, стрелу направив во властелина, желая положить конец, убив отродье джинна. Не дело — кровь народов лить, за это следовать должна расплата, за убийство — разумным кажется убить, не желая обрести ни почестей, ни злата. Погибнет юноша от ран, пери к нему устремится с небес, может для того представления сей сказ и дан, чтобы за заслуги нисходили к человеку девы, а не ангел или бес.
Читатель мыслит пусть, иначе трактуя сочинение Мура в переводе. Только неизбывной останется грусть, ведь погибать молодым — не по природе.
Автор: Константин Трунин