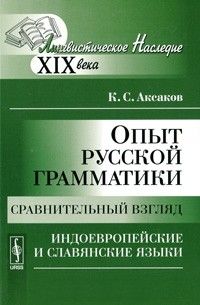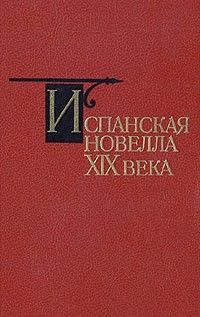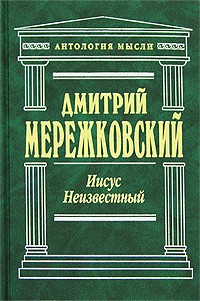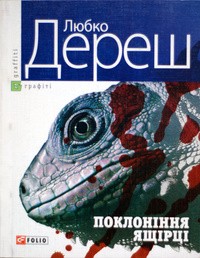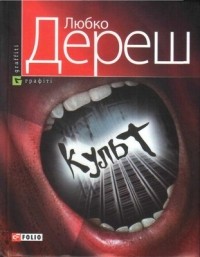Иван Козлов «В крымском подполье» (1947)
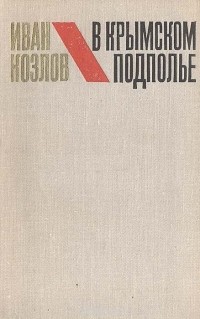
Иван Козлов встретил агрессию Третьего Рейха, находясь на лечении. Будучи лишённым здоровья, он практически остался без зрения, вследствие чего пребывал на излечении. Как ему следовало поступать? С юных лет он не мыслил себя без борьбы, выступая за революционное движение с 1905 года. Он был хорошо знаком с образом сопротивления из подполья. А теперь его знания могли и не пригодиться, так как разве кто-нибудь будет надеяться на помощь больного человека? Иван Козлов имел твёрдую уверенность — от его помощи не откажутся. Ему предстояло вернуться в Крым, где он до того долгое время жил. Как раз через Крым ожидалось массированное продвижение немцев, отдавших полуостров на откуп румынам, кому Крым обещался в длительное владение. Обо всём этом Иван Козлов рассказал в книге воспоминаний, придав повествованию вид размышлений и художественной прозы.
Когда советские люди покидали Крым, кому-то следовало остаться. Иван Козлов убедил в необходимости создать для себя репутацию неблагонадёжного человека. Он обязывался устроиться в рыбное хозяйство, работать из рук вон плохо, ещё и открыто выражать симпатии немцам. Вполне очевидно, подобного работника коллектив люто возненавидит. Зато, ведь для того Иван Козлов такую деятельность вёл, агрессор может возложить на него некоторые обязанности, благодаря чему получится иметь большую осведомлённость об его намерениях.
Иван Козлов открыто рассказал, каким образом налаживалось сопротивление. Но особенно выделил крымских татар, оказывавших своеобразную помощь — они едва ли не в полном составе становились пособниками немцев, всегда выдавая места расположения партизан. Об иных случаях Иван Козлов не знал, поэтому обошёлся без оговорок. Имея подобного врага в своём стане, подполье оказалось обречено на поражение. После взятия немцами Севастополя, партизанское движение в лице Ивана Козлова расформировали. Сам Иван Козлов был отправлен в Бийск, где ему в течение года предстояло работать на заводе в числе партактива.
Как вернуться в состав подполья? Ивана Козлова не желали слушать, указывая на необходимость присутствия в тылу. И только при успехах Красной Армии, при должном вскоре последовать освобождении Крыма от оккупации, Ивану Козлову разрешили вернуться к подпольной деятельности. Теперь он находился среди партизан, более выполняя функции наставника, нежели участвуя в разведывательных мероприятиях или в проведении деструктивной деятельности. Сам Иван Козлов отметил, насколько он пригодился в качестве человека, отлично владевшим мастерством сапожника.
Ещё один момент, обязательный к упоминанию, рассказ про доброту партизанского движения, никогда не допускавшего зверств в отношении пленных. Наоборот, о людях проявляли заботу, сытно кормили и освобождали. Делали это ради желания показать, насколько немецкая пропаганда лжива, рассказывая про русских страшные истории, будто бы зверствующих над всяким, кто попадался им в руки. Тут если и можно о чём сообщить, то явно с немецкой стороны рассказывали схожие истории. Ничего с этим не поделаешь, всякая сторона старается показать себя лучше противной. Опять же, остаётся так думать, Иван Козлов видел лишь проявление доброты и никогда не становился свидетелем зверств, если верить его словам.
Примерно об этом и рассказывает Иван Козлов в книге воспоминаний. Нет смысла в критическом рассмотрении или в анализе текста, нужно принять повествование за данность. Для Ивана Козлова война была именно такой, и об этом он постарался рассказать. В любом случае, сообщать информацию другого содержания он не мог, по причине того, что не хотел, либо вовсе — со своей стороны он оказался максимально правдивым.
Автор: Константин Трунин