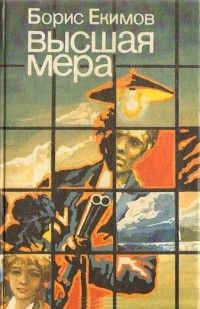Александр Сумароков «Притчи. Книга II. Часть I» (1762-69)
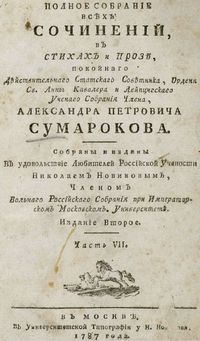
За первой книгой следует вторая, Сумароков притчи слагал, покоя не зная. Пишет много, как не устал, словно новое слово мудрости он россиянам давал. Но басен всегда был избыток, всегда их изрядно бывало, о чём наследие Руси нам подсказало. Кто знает о книге индийских притч, греками названную «Стефанит и Ихнилат»? Тот постоянному повторению сюжетов не может статься рад. Обрыдло, устал, хоть таблицу сходства веди, не хватит жизни и сил до конца сей труд довести. Потому, каким бы не казалось похожим, богатство басен опять приумножим.
О том притча есть, «Терпение» — имя ей. Коли конь просит овса, то не дать ли поголодать ему пару дней? Отощает, запросит еды, а ты его всё равно не корми. Он ведь конь, должен сам корм себе добывать. Каждому это кажется правильным, каждому так и полагает знать. Да вот отощает конь, отбросит копыта, опрокинется навзничь, так голодом сия тварь божья будет убита. Как не корми коня после, не накормишь его, ибо благо не в терпении, им кормим не того. Так и с баснями — не терпят они вольных хлебов, достаточно для них и прежде бывших известными слов.
Вот притча «Старик со своим сыном и осёл», она о том, как старик шёл, и сына вёл с ослом. Садил он сына на осла, садился сам, сын рядом шёл. Каждый путник, грубо говоря, считал, что среди них старик и есть осёл. Разве дело, скотину утруждать? Подумал старик, будет лучше осла на плечи свои взять. Как не поступи, враги найдутся у тебя, потому верь только в себя. Поднимут на смех или укорят, то от зависти: говорят.
Есть баснописцы прежних лет. Среди них был Эзоп — знаменитый поэт. Вроде он лев, ибо дал нам урок, но и не лев он, быть себе хозяином он никак не мог. А если представить, будто Эзоп возомнил о себе выше, не в баснях, а прямо восстав? Разве он не стал бы свободным, рабом быть перестав? Всё суета, когда дело подходит к сказанию из жизни царя зверей, когда его могут оказаться звери сильней. «Осёл во львовой коже» облачённым предстал, он рыком всякого пугал, стали поклоны отбивать ему, не ослу — звериному царю самому. Представь себя таким же, по жизни ты лев будто, вечер ли, день ли, или уже утро. В том тебе уверение даётся, уважение к тебе у всех тут же проснётся.
Прояви смелость! И иди вперёд. Не важно, ногами пойдёшь, или кто тебя понесёт. Притча «Безногий солдат» как раз для того, чтобы осознать, сколько доступно в мире всего. Солдат без ног, в монастырь дорога ему, кормят там плохо, нельзя понять почему. Возопить от такой диеты, лучше покинуть стены обители строгой, пойти не этой, отправиться другой дорогой. Есть ноги или нет, поймёшь ты сразу, стоит перешагнуть за монастырскую ограду. Лучше воля, чем каземат, когда нужно, не ощутит отсутствия ног безногий солдат.
В жизни всё так, не знаешь чему благодарным быть. Проще, кажется, взять и забыть. «Подьяческая дочь» кутила, бед не знала, отца своего никогда не вспомнила. А между тем, отец крал, о благе дочери думая день ото дня, покуда за воровство не скатилась с плеч его голова. Что же до то, ради кого он жил, той будто никто даром ничего не подносил. Все обязаны ей — она никому. И не понимает, так почему.
Вот притча «Болван», как люди избрали богом болвана, руки-ноги при нём, но голова полна изъяна. Мольбы к нему обращали, взывали помочь, отогнать наваждения и огорчения прочь. А что болван, чем поможет он? За то он и будет с прежней должности смещён. По той причине, ибо доверие важно заслужить, попробовать стоит внимание на притчу «Одноколка» обратить. Там сын барский, неумеха, попросил вожжи, возникла для него утеха. Взял он, вскачь телега понеслась, пока лошадь не разбилась, она бежать не унялась.
Автор притч словоохотлив, говорит свыше меры? Не заслуживает оттого он веры? Хорошо, притча «Дельфин и невежа-хвастун» даётся для примера, вот где испытана окажется вера. Спас дельфин невежу, стал спрашивать о суше его: как в городах земных, в Москве происходит чего? А невежа хвастуном оказался, врал он и бездумно привирался. Надоело то дельфину, сбросил невежду в воду, тот утоп. Читатель мораль, есть надежда, усвоить смог?
Частый гость — притча про волю и про обязанность служить. Притча «Волк и собака» одной из таковых может быть. Волку лучше голодным в лесу существование влачить, нежели в ошейнике и конуре сытым о свободе забыть. Такое же дело в притче «Олень и лошадь», где откажется олень от стремян и седла, уйдя обратно, без долгих раздумий, в леса.
Притча «Черепаха» — извечный сюжет. О побуждениях узнавать причин нет. Задумала лететь, неважно куда, несли её утки, покуда та не открыла рта. Упала, ушиблась или разбилась о твердь, с седой древности сия трагедия известна ведь. Другой сюжет — про скопидомство гласит: в притче «Двое скупых» смысл сего стался раскрыт. Дело случилось найти клад. А кто кладу не бывает рад? Сговорились скупые клад разумно поделить, думая тайно его с глаз подельника утащить. Зачем крали друг у друга: кто объяснит? Жизнь минует, накопленного никто не сохранит. Получается, воровали, заранее зная о предстоящей потере. До них не удержали, и они удержать богатства не сумели.
Стоит ли просить кого-то о помощи, взывать к небесам? Не скупись, помочь себе каждый может и сам. Как в притче «Мужик и кляча» случилось, где лошадёнка от груза тяжести едва не надломилась. Требовалось малое, разгрузить наполовину воз, вместо чего мужик к богам молитву вознёс. Лучше спустился бы на землю, оценил возможности коня, вместо чего мужик дальше идёт, олимпийцев кляня. Кто возмутится сему? Притча «Олень и дочь его» в подмогу даётся ему. Там храбрым был олень, рога не красили его, как бравада человека не стоит ничего. Убедись в силах доступных, что лучшее есть в твоей персоне, вполне может быть — это не сила в руках, а быстрые для бега ноги?
Об Эзопе Сумароков притчи писал, только кто бы их понимал. Про «Эзопа и буяна» есть притча одна, с Аполлоном даже она. Да, никто не обещал раскрытия басен всех. И не надо показывать радостный смех. Ясно издревле, притча «Обещание» тому помочь должна, не держат слов, и обещания — такие же слова. Притчей «Орлиха, веприха и кошка» такое мнение можно укрепить, к разладу в понимании суть подводить. Знает кошка, каким образом поссорить соседок, такой для кошек способ не редок. Пожнёт она плоды своего ремесла, разругались другие, а она съела поросёнка и птенца орла.
Что тут не так? Отчего жаром пышет читатель? Какой он всё же истины искатель? Притча «Молодой сатир» должна охладить, стоит к ней себя обратить. Холодно сталось пастуху, сатир его согрел, да обжёг пастух рот, когда его кашу ел. Опять не так, а что читатель ожидал? Притчу «Раненый» он, пожалуй, ещё не читал. Прослышал как-то солдат, будто его друг, такой же солдат, руки повредил в бою, словно плети теперь они лежат. Но раненый солдат лишь ноги повредил, о чём он другу своему и говорил. Но не поверил друг, ибо молва о руках говорила. Выходит, не важно, что на самом деле было.
Допустим ещё притчу на тему злободневную, «Лисица и терновый куст» — эту притчу преотменную. Захотелось лисе ягод отведать, только колется куст. Она ветки раздвигала, слышался хруст, изодрала лапы, укоряя за то не жадностью свою, проклятия сыпала она всё тому же кусту. Впрочем, куст не мыслил зла, ибо не мыслит он. Притчу «Кобель и сука» о схожем прочтём. Пустил кобель суку к себе, пока та в положении находилась. Думаете, после та от кобеля удалилась? Как бы не так, коли сухо и тепло, отправляется пусть кобель, не трогая её.
Гневен читатель. Усталость накопилась. А знает ли, читатель, какая беда ещё приключилась? В притче «Лев и осёл» повелел лев ослу страшно рычать, стал тем осёл всех страшно пугать. Напугался и лев, благо вспомнил, какой зверь так грозно кричит. Значит, правым должен быть тот, кто, не сомневаясь, уверенно говорит. Нет веры опять? Вот ещё притча «Два крадуна», как у поваров мясо украли, и они не могли оправдать себя. Сомнение закралось в них самих, надо ли продолжать о том данный стих?
И вот Сумароков долгожданную мысль произнёс, достойную пролития горестных слёз. Не меритесь с врагами, ибо враг — это враг, он мирится только из-за последующих драк. Как не станет овцам волк заменой собаки, так и враг другом не станет — всё это враки. Попробуйте испробовать, убедитесь в том сами, только давайте сразу попрощаемся с вами. Не найдётся на земле мыслям о дружбе светлым места. Рассуждайте о том без чуждой фальши, насколько бы похвала врага не была лестна. Притча «Волки и овцы» как раз о том, слопают волки овец: по-доброму слопают безнаказанно солнечным днём.
Притча «Голова и члены» — ещё один призыв разум сохранять. Разум, кстати, очень легко потерять. Например, откажется голова желудок кормить, ибо не положено, как такое может быть? Все работают, один он переваривает, удовольствия ради: голова на том настаивает. Какой исход? Умерли все. Потому нужно помнить — лишнего не бывает нигде. И не стоит искать выгоду, где её не сыскать, никогда нельзя удачу отпускать. Притча «Рыбак и рыбка» мысль закрепит, про журавля в небе синица в руке прокричит.
Отказалась голова желудок кормить, рыбак пожелал рыбу мелкую жир нагуливать отпустить, а мужика укусила блоха, о чём тот мужик возопил, к богам обращаясь, словно свет ему быть перестал мил. Притча «Мужик и блоха» раскрывает секрет, не у одного человека, у всех одновременно случается множество бед. Стоит ли из-за блохи пенять на жизни течение? Следует проявить и к нуждам блохи хотя бы малое почтение. Ведь бывает такое, как в притче «Заяц» произошло. Льва рогами толкнули, и с той поры для рогатых всё уже решено. Всех истребить, дабы не осталось рогачей. Испугался заяц — владелец длинных ушей. От беды лучше из леса уйти поскорей, понимал, померкнет свет в очах в ближайший из дней. Не блоха, конечно, но лапа льва тяжела, раздавит всякого, чья длинной будет голова. Скажут, заяц много вообразил о себе. Позвольте, притча «Река и лужа» об ещё одном мрачном дне. Скакал рыцарь, от погони будто уходил, впереди водоём оказался, он сил своих не оценил. Думал о луже или о реке, в любом случае — оказался на дне.
И вот. Басня басен, притча притч. «Ворона и лисица» имя ей. Скольких её чтение умиляло людей. Всякий хвалил лису, ругая ворону за похвальбу, но знал ли кто, где искать исходную для известной истории притчи строку? Пожалуйста, строчка в строчку, без лишних прикрас, Сумароков сочинил, кто бы знал, что она теперь для нас. Потому иной смысл нужно извлечь, вспомнив, из одного теста разных изделий не испечь.
Автор: Константин Трунин