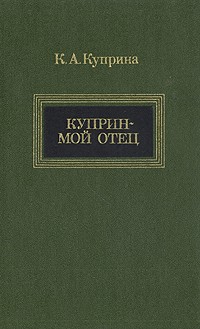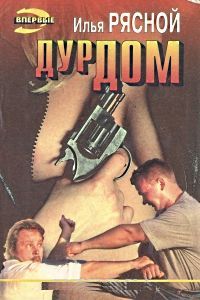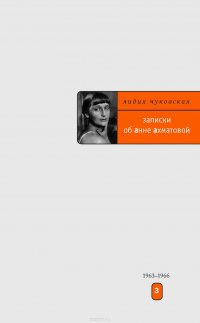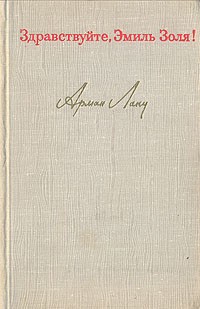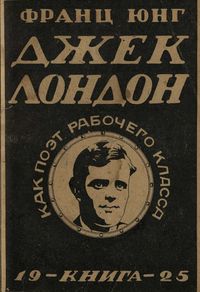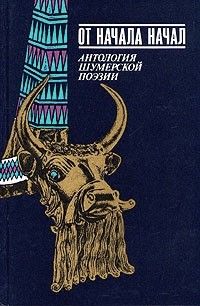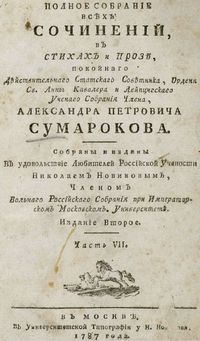Рафаил Зотов «Две сестры, или Смоленск в 1812 году» (середина XIX века)
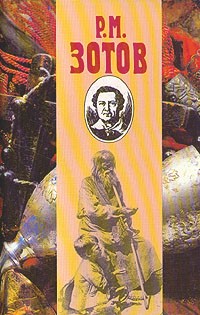
Некогда Смоленск стоял на пути Наполеона. Но читателю то сообщается для предваряющей основное содержание информации. Трагические события послужат причиной перелома в человеческих событиях. Когда французы подступали к городу, случилось двум женщинам рожать. Одна из них — княжна. Другая — представитель менее значимого сословия. Обе матери вскоре умирают, а дочери остались на попечение к их общему знакомому. Но кто из них наследница высокого рода? Знакомый того предположить не мог, поэтому воспитывал по своему разумению, однако вынужденный всё-таки определиться, кому из девочек позволить считаться княжной. Читатель обязательно укажет: ещё одна вариация плутовского романа. Так и есть.
Более того, девочки до совершеннолетия будут оставаться в неведении. Они будут думать, что приходятся друг другу родными сёстрами, а значит имеют равные права в обществе. Тут бы подсказать воспитателю на возможность объявить девочек рождёнными от княжны, поскольку свидетелей родов не имелось, да и поручиться мог один лишь человек, который сам не представлял, насколько правдиво до него донесли сведения. Во всяком случае ставится ясно, Зотов ведёт читателя к сентиментальной развязке. Обязательно придётся пролить слёзы, либо у действующих лиц возобладает благоразумие, отчего напряжение вмиг спадёт.
Что же, воспитатель сделает неудачный выбор. Он назначит княжной — не дочь княжны. Откуда это станет известным? Откуда ни возмись появится женщина, присутствовавшая при родах, заприметившая примечательное родимое пятно, берясь по нему установить истину. Читатель и тут придёт в недоумение. Во-первых, этот персонаж появляется в самом конце. Во-вторых, верить ей приходится на слово. Отчего-то никто не усомнится. Наоборот, последует буря переживаний, в связи с возникшей ломкой представлений о происходившем до и касательно уже обдуманных планов. Получилось нечто вроде — из грязи в князи для одной сестры, а для другой — был князь, а ныне грязь.
Разумеется, благоразумие всё-таки возобладает. Не для того прежде писали произведения, дабы оставить читателя в полнейшем недоумении. Итак налицо запутанная история с сомнительными предпосылками и суждениями, из-за чего перед Зотовым имелась необходимость минимизировать укоры в надуманности обстоятельств. Вполне очевидно, между девочками не возникнет вражды. Они обязательно найдут способ помириться. Они отчётливо понимают, особых выгод всё равно извлечь не получится, как и хлебнуть горя. Если бы они росли врозь, их воспитывали разные люди, тогда допускался вариант расхождения во мнении о должном быть. Но на страницах произведения Рафаил оставил самый оптимальный вариант — людям следует держаться друг друга, особенно, если они с младенчества росли бок о бок.
А как же быть со Смоленском в 1812 году? О судьбе города Зотов повествует в первой части «Двух сестёр», никак не намекая, в какую сторону он поведёт рассказ дальше. Потому и приходится думать, что задумки рождались у него по ходу повествования, а тут это случилось буквально — родились вместе с девочками. И Рафаил твёрдо уверился в удачно задуманном совмещении плутовского романа с сентиментализмом. Делал ли так до него кто-нибудь? Ведь Зотов не просто сообщал историю лиц с будто бы неизвестным происхождением, он к тому же никому из них не гарантировал обретения счастья. Но читатель всё-таки сохранит уверенность, так и не поверив, будто бы ему рассказанное могло быть именно таким. В конце концов, мало ли родилось девочек в 1812 году, чьи матери не пережили родов, либо последовавших за ними физических и психологических нагрузок. Да ещё и эта внезапно обрушившаяся женщина, будто бы истина в последней инстанции. Однако, правдоподобным повествование стать не смогло, зато определённо пробудило переживания в душе читателя.
Автор: Константин Трунин