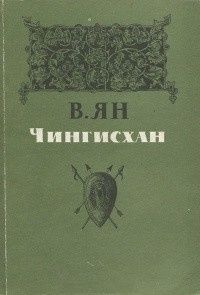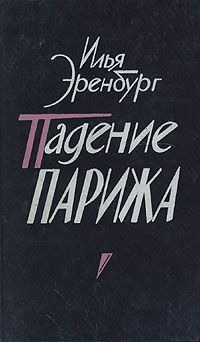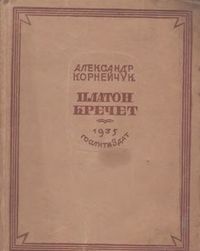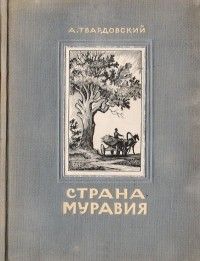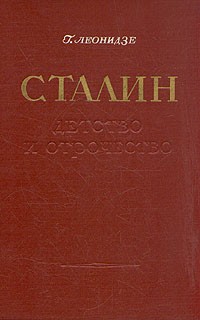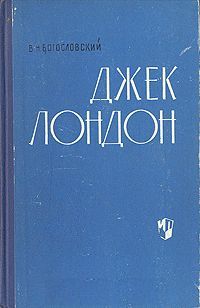Константин Паустовский «Теория капитана Гернета» (1933)
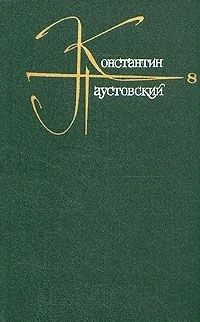
Природа самодостаточна. Однако, человечество так считать не склонно. Оно считает самодостаточным как раз себя, тогда как прочее зависит от его деятельности. Для граждан времени становления Советского Союза подобный ход мысли ныне воспринимается очевидным. Но к такому склонны абсолютно все люди. Постоянно рождаются теории и предположения, истинности в которых порою не бывает. Всякий раз фиксируется определённый момент правды, только за неё и принимаемый. И неважно, что в будущем любое мнение может быть опровергнуто, хоть и будь оно истинно правдивым. Говорить об этом можно бесконечно, но для наглядности лучше ознакомиться с теорией Евгения Сергеевича Гернета, благодаря усилиям Паустовского принявшей вид документальной повести.
Человек начала XXI века боится глобального потепления. Он панически опасается повышения температуры на планете, целиком возлагая вину на собственную деятельность, ежели цифры оказываются выше на десятые доли градуса, нежели за прежние годы наблюдений. Как следствие, потепление приводит к таянию ледников. Значит, большая часть суши будет подвержена затоплению. Гернет думал о другом. Он желал избавить планету ото льдов. Он выдвинул теорию, что лёд порождает похолодание — и это так, стоит попытаться вникнуть в суть его измышлений. А как же глобальное потепление? Только советский человек мог стремится изменить климат планеты, дабы северные и восточные области страны получили благоприятный климат для проживания людей.
Как лёд может порождать похолодание? Гернет считал это очевидным. При обильном количестве льда, климат будет иметь более низкую температуру вблизи его залегания, нежели в других областях планеты. Поэтому, чтобы избавиться от угрозы наступления ледникового периода, нужно срочно озаботиться и приняться за растапливание льда Гренландии, иначе, в конечном итоге, земной шар окажется в ледяном панцире. Впрочем, Гернет выдвинул и теорию арктических лишайников, порождающих холод, чем благоприятствуют формированию материкового льда. Ознакомившись с таким предположением, человек иначе начнёт смотреть на дрейфующие льды, откалывающиеся от Гренландии и Антарктиды. Оказывается, это не вина таяния льда, просто нарос новый пласт, не помещающийся на самом острове и континенте. Кажется, представление о картине мира переворачивается с ног на голову.
Это не может быть правдой: скажет читатель. Тогда Паустовский ещё раз напомнит о Гренландии — некогда зелёной стране, каковой её застал Эрик Рыжий, он же первый из европейцев, достигший Нового Света. Откуда появился лёд? Там можно найти свидетельства о произрастании в древности теплолюбивых растений. И не важно, дрейфовала Гренландия или нет, для теории Гернета это не имеет значения. Главное придти к мысли, что однажды подвергшаяся деятельности арктического лишайника, Гренладия стала зарастать льдом. Будет зарастать и дальше, а затем лёд выйдет за её пределы и распространится дальше. Этого-то и следует более всего опасаться.
Как теперь быть? Вдруг действительно окажется, что человечество винит себя за то, в чём заключается его заслуга? Гернет призывал бороться с арктическими лишайниками, дабы не допустить ледникового периода. Пока ещё не поздно! Ещё не наступил критический момент, после которого борьба окажется бессмысленной. Планету действительно можно очистить ото льда, и не обязательно это приведёт к затоплению суши. Вернее, искать связь между глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана — напрасное занятие. А вот установить, почему ледяной покров планеты настолько устойчив, трудно подвергающийся действию солнечной радиации — нужно обязательно. Как-то нелогично получается, ежели солнечный свет имеет одинаковую силу, при этом не способный равномерно распространяться. Значит имеется другая причина. Арктический лишайник вполне способен порождать холод. Об этом обязательно надо задуматься!
Автор: Константин Трунин