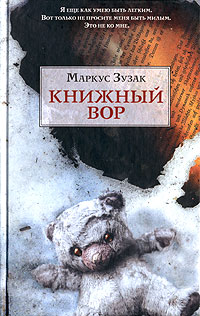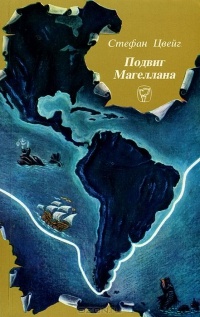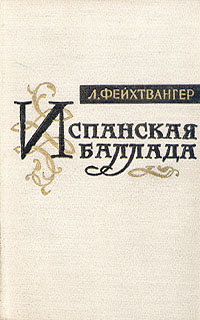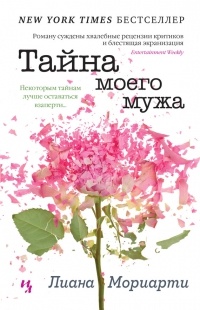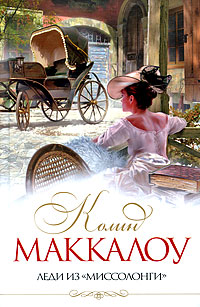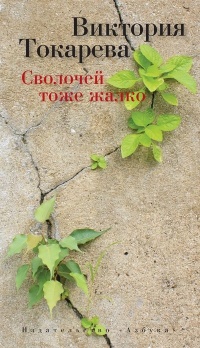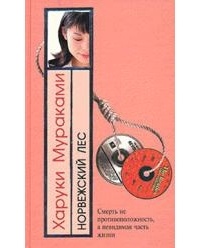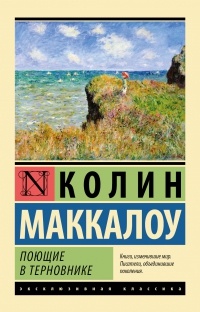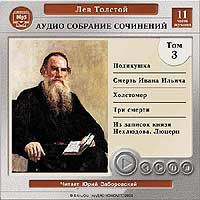Иван Бунин «Жизнь Арсеньева» (1930)

Нужно иметь талант, чтобы видеть положительные черты в отрицательных моментах жизни. Былое воспринимается с болью, но надежда на светлое будущее всё равно остаётся. А если не знаешь, что ждёт тебя впереди, то продолжаешь сохранять хорошее настроение. Со стороны поведение такого человека воспринимается с удивлением, будто он не от мира сего. Когда общество лихорадит и все заботы о скором сломе традиций, находятся люди, чьи помыслы не распространяются дальше окрестностей дома, их внимание привлекают облака на небе и букашки в траве, они размышляют лишь о прочитанных книгах и живут второй жизнью на страницах литературных произведений. Именно таким человеком был Алексей Арсеньев, судьбу которого взялся отразить Иван Бунин. Для такого персонажа писатель был готов вывернуть себя наизнанку, чтобы поделиться собственной болью и личными воспоминаниями, касающимися навсегда утраченных иллюзий.
Бунин подробно останавливается на детских годах Арсеньева. Показывает становление человека, каким было его окружение и отчего его душа тянулась поражать знакомых поэтическим складом ума. Алексей находил радость в мелочах, не думая о чём-то другом, получая удовольствие от перечитывания полюбившихся книг. «Жизнь Арсеньева» переполнена размышлениями главного героя о творчестве русских классиков; и не всегда это приятные впечатления. Над чем-то юный Алексей бессовестно подтрунивает, а то и находит ершистые слова, исходя из довольно странных ассоциаций. Он готов прогуляться по цепи вместе с котом учёным на дубе у Лукоморья. А может закрыть книгу и найти грача-калеку, чтобы облегчить страдания птицы самым негуманным способом. Портрет любознательного романтика никак не складывается. Арсеньев продолжает оставаться далёким от реальности человеком.
Взросление Алексея не могло не коснуться. Он и не мечтал навсегда остаться ребёнком. Ему противно общаться с детьми в гимназии. Его постоянно подталкивают обособиться от учеников, чьи родители не имеют благородного происхождения, подбивая вступить в дворянский кружок. Всё это никак не касается Арсеньева, с годами он лишь сильнее замыкается в себе. Бунин усиливает напор на художественные произведения, на страницах которых Арсеньев продолжает жить. Общество же лихорадит ещё сильнее, и если бы не трагедия в семье, Алексей так и не смог бы понять суровую правду реальности. Тонкость его мысли не имеет места для расширения. Бунин не даёт главному герою права на переоценку воззрений. Автору остаётся лишь сбросить мешком на его плечи любовь, дабы ошарашить Арсеньева, надеясь на долгожданный всплеск эмоций. И он происходит — нет людей, способных быть равнодушными к этому чувству.
Арсеньев чем-то напоминает самого Бунина. Оба они любили писать стихи. Сам же Арсеньев к зрелым годам начинает всё лучше осознавать обстановку вокруг. Этому способствует сама жизнь. Отец отдал имение за долги. Алексей мотается по стране, всё чаще его посещают мысли о самоубийстве. А тут ещё не даёт покоя любимая девушка, негативно влияющая на его психическое самочувствие. Горестных моментов становится больше, и нет никакой возможности от них отстраниться.
Остаётся вспомнить героев Тургенева. Но те имели твёрдые убеждения и шли к осуществлению поставленной цели. Неважно, достигали они её или нет. Они были последовательными до конца и никому не позволяли себя переубедить. Алексей Арсеньев не такой — он слишком поздно повзрослел, будет метаться всё оставшееся ему время и рано или поздно всё-таки доведёт пистолет до головы, но пока Бунин прерывает повествование на печальном моменте, после которого Арсеньев сойдёт с ума или сведёт счёты с жизнью. Также поступали тургеневские герои. Только до чего же разными путями они шли к одному и тому же решению.
Автор: Константин Трунин