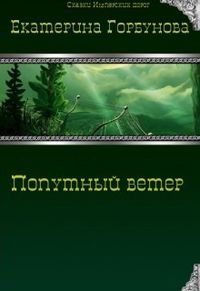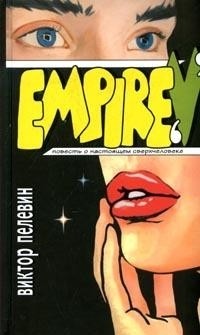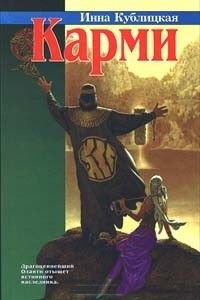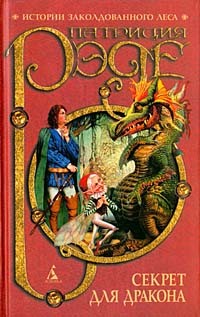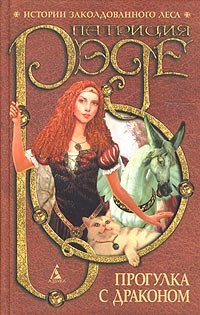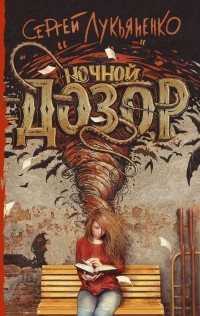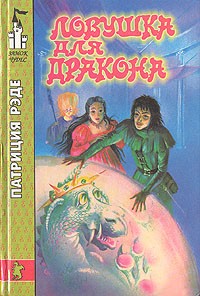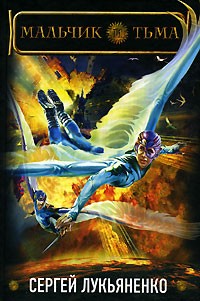Сергей Лукьяненко «Лабиринт отражений» (1997)

Цикл «Лабиринт отражений» | Книга №1
Дримить о рульном вирт-ворлде под осью Виндоус, где допускается полное погружение в происходящее на экране под воздействием гипноз-программы, чтобы в итоге призвать отказаться от зомбирующих подсознание увлечений: есть произведение Лукьяненко «Лабиринт отражений». Позволительно допустить любой вариант событий, но зачем откровенно издеваться над читателем из будущего? Такого себе не позволял даже Герберт Уэллс. Даже Филип Дик был убедительнее в «Убике», хотя имел смутное представление о виртуальном компьютерном пространстве. Вообразить среди диалапа и флоппи-дисков действительное погружение в происходящее перед тобой также трудно, как спустя двадцать лет, видя значительный прогресс в данном направлении.
Определимся сразу, «Лабиринт отражений» не является фантастическим произведением, не стоит его относить и к киберпанку. Это — старое доброе фэнтези! Писатель придумал собственный мир, населил его странными существами, создал для них неправдоподобные реалии, и предался безудержным фантазиям на тему «А что если». Далее он стал размышлять над разным, неизменно опираясь на уровень развития технологий на момент написания произведения.
Почему бы не предположить, будто на самом деле была создана программа для полного погружения в виртуальность? Чем тогда заниматься главному герою? Разумеется, он толковый юзер, с компьютером не имеет трудностей, умеет избегать опасностей мировой паутины и не подпускает вирусы к программному обеспечению. В свободные минуты ему лучше греться чайком. Во всём остальном он будто бы хакер, только читатель не увидит в нём ничего, кроме манчкина.
Главный герой должен быть честным парнем, понимающим, мир полон несправедливости. С этим требуется разобраться. В первую очередь наказать корпорации за их наплевательское отношение к нуждам рядовых граждан. И во вторую очередь наказать. И в третью. Задвинуть главного героя не сможет никто, так как тот обладает всем, чего так страстно желает… нет, не читер, а именно манчкин. Виртуальная реальностью окажется под его управлением. Он уподобится рыбе в воде (дайверу) и станет нырять всё глубже, не думая прикрываться, ведь он и в жизни мастер на все руки. Повезло главному герою с писателем: всем бы так удачно пользоваться умениями личного ангела-хранителя.
Не обойдётся сюжет без любовной линии. В этом деле главный герой окажется на той же волне успеха. Лукьяненко не стал изобретать иного средства для избавления от напасти в виде зависимости от компьютерных игр. Сергей выбрал проверенное средство, отрезвлявшее многих людей… и ломавшее впоследствии жизни, о чём редко рассказывается в беллетристике.
Читателю остаётся наблюдать за авторскими фантазиями. Лукьяненко позволял себе допускать проявление невозможных способностей, трудно совместимых с описываемым им состоянием компьютерной индустрии. Дополнительно в тексте встречаются философские размышления, не совсем уместные в атмосфере осуществления любых желаний.
«Лабиринт отражений» с каждым годом выглядит всё архаичнее. Положительным значением является отражение некогда имевшего места быть. Странно наблюдать за насмешками над тем, что будучи тогда в упадке, ныне считается уделом обеспеченных людей. Да и диалап, флоппи-диски, мышь с шариком. Конечно, так неправильно рассуждать. Однако, не фантастика перед читателем, а обыденный мир, в котором писатель некогда жил, придумав для него виртуальную реальность с полным погружением. Получается, речь следует вести именно о фэнтези, какие бы возгласы не раздавались. Поэтому рассуждать о фантазии Лукьяненко допустимо.
Основная проблема остаётся. Люди продолжают тратить время на компьютерные игры, ничего от этого не получая, кроме ещё одного бесполезно прожитого дня. Подумать только, некогда серьёзно резались в Дум… Idclip, idkfa и «Лабринт отражений» в помощь тем, кто продолжает этим заниматься.
Автор: Константин Трунин