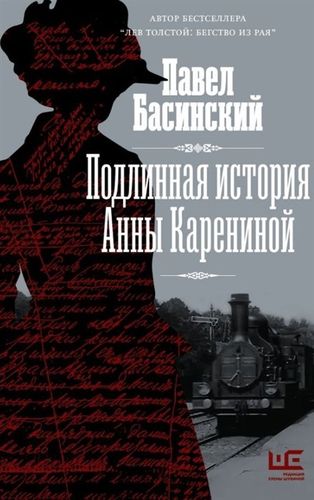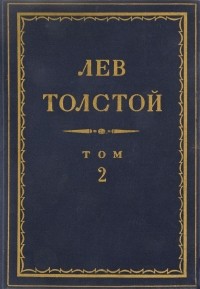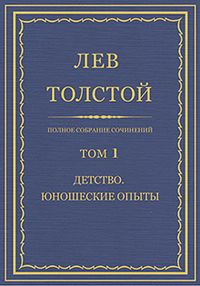Лев Толстой — Наброски 1852-54

Есть ли смысл говорить о набросках Льва Толстого? Если он о чём-то не пожелал проявлять заботу, некогда написав и больше к тому не возвращался, значит и потомку до того дела быть не может. Но какой исследователь творчества с таким подходом согласится? Всегда мнение писателя идёт вразрез с чуждыми ему суждениями. И раз толстоведы бережно сохранили те наброски, придётся и читателю уделить им внимание. Полнее образ вхождения Толстого в литературу не сложится. Однако, почему бы и нет.
1852 годом датируется набросок «Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт», выполненный на нескольких страницах. Толстой начинал с разрушения представлений о Кавказе, где на самом деле нет того духа высокого благородства, который сложился на примере впечатлений от творчества Лермонтова и Марлинского (Александра Бестужева). Сам Лев отправлялся служить, имея представления о прекрасном крае черкесов, черкешенок, бурок, кинжалов и бурных речных потоков. Только известно ли читателю — говорил в наброске Толстой — черкесов на Кавказе нет, а есть чечены, кумыки, абазехи, и не только они. После Толстой намеревался пересказать одну из местных легенд, того не сделав. Дальше он повествовать не стал.
В 1853 году был написан полноценный рассказ «Святочная ночь», никогда при жизни писателя не публиковавшийся. Толстоведы собрали его из рукописей, придав законченный вид. Они же проследили развитие авторской идеи. Изначально Лев замыслил повествование, именованное им как «Бал и бордель». Следующее название — «Святочная ночь». Но и этот вариант Толстой зачеркнул, написав поверх «Как гибнет любовь». Читатель может использовать любое из них, если желает как-то именовать данный рассказ. А раз толстоведы настаивают именно на варианте «Святочная ночь», то нужно к ним прислушаться. Пусть это создаёт ложное представление, будто повествование сложено в духе святочных рассказов. Совсем нет. Согласно сюжету можно говорить скорее про более близкое к смыслу первоначальное название — «Бал и бордель». Читателю предстояло сперва ознакомиться с беседой отца и сына, где отец интересовался, «волочится» ли за кем-нибудь его отпрыск, получив на то отрицательный ответ. Читатель сразу проявлял интерес к неблагозвучному слову, узнавая его как характеристику отношений, где один влюблён, стремясь к объекту любви, тогда как вторая сторона об этом ничего не знает. Что же — отмечает читатель, то дела молодости. Представленный Толстым отец выразит однозначное суждение — с возрастом никаких балов не надо, лишь бы посидеть одному в тишине. Оставшаяся часть повествования — забавы на балу.
Набросок «Дяденька Жданов и кавалер Чернов» сложен Толстым в 1854 году. Толстоведы находили в нём привязку к «Рубке леса». Читатель же скорее увидит в этом работу, чем-то отдалённо напоминающую другое произведение — «Два гусара». Возможно, начиная работать над описанием Жданова и Чернова, Лев понял бесполезность продолжения повествования, не видя смысл в развитии событий. Он сделал попытку сравнения, показывая сперва качества одного, потом другого. Что, к чему и как? Привычно спросит читатель, не раз задаваясь таким вопросом при знакомстве с ранними трудами Толстого. В этом случае ничего и не подразумевалось. Начав изложение, Лев быстро его закончил, более к нему не возвращаясь. Можно точно предположить, идею повествования он всё-таки применит при написании «Двух гусаров».
Как понимает читатель, знакомиться с содержанием приведённых тут набросков нет необходимости. Разве только из желания сложить определённый образ начинающего писателя. Ежели такое желание действительно есть — толстоведы всегда готовы поддержать, потому как любое знание о писателе будет полезно.
Автор: Константин Трунин