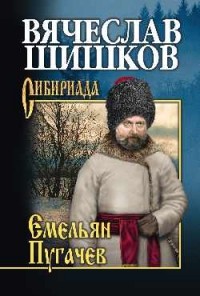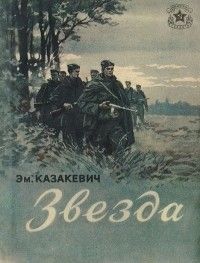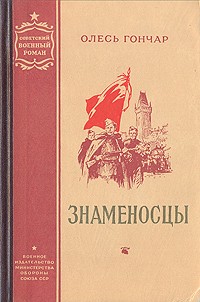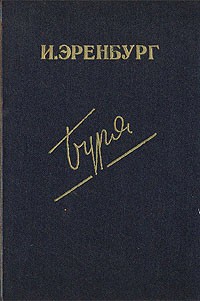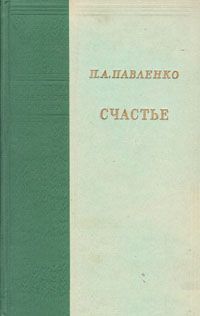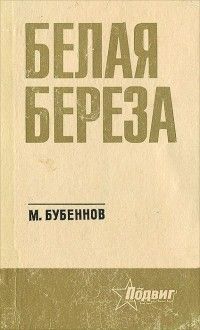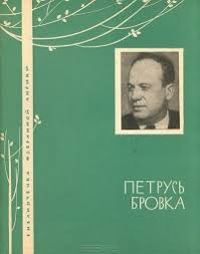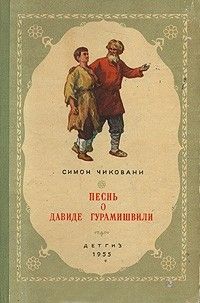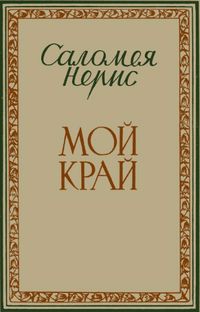Берды Кербабаев «Решающий шаг» (1940-47, 1955)
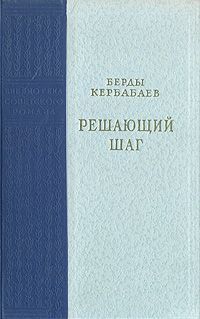
Сколько не делай хорошего — сделаешь больше плохого. Это объясняется наглядно, хотя бы с помощью литературного труда Берды Кербабаева. Перед читателем туркменский народ, ещё не скинувший путы царизма. Царизм был настолько бесчеловечен к туркменам, что дал этому народу свободу от рабства над самим собой, позволил участвовать в битвах на полях сражений Мировой войны, построил в пустыне железную дорогу. Теперь туркмены смогли вздохнуть спокойно, найдя управу на местных царьков, они оказались способны на равных сражаться с европейцами и, самое главное, отныне один вагон заменял караван из ста верблюдов, доставляя к нужному месту не за месяцы пути, а всего лишь за один или несколько дней. Обрадовавшись этому, вскоре туркмены озлобились на царизм, поскольку их лишили рабства, стали призывать на войну и отказали в праве на продолжение существования по собственному усмотрению. Вот потому и было сказано: сколько не делай хорошего — сделаешь больше плохого.
Кербабаев сообщал о событиях, ни в чём не сомневаясь. С первых страниц он показал туркменский народ, продолжающий оставаться под давлением традиций. Пусть на их земли пришли русские, распространяя власть царя, это не отменило прежних привычек, вроде необходимости выдавать юнцов за зрелых женщин, а то и вовсе мужчине полагалось жениться на сёстрах жены, если та преждевременно умирала. Туркмены действительно желали участвовать в Мировой войне, куда их не призывали, требуя поставлять коней, изредка допуская до битв джигитов. Но что та война туркменскому народу? Они знали, или им о том сказали, — царь скрывает правду, ни в чём не сознаётся, закрывая взоры туркмен пеленой. Даже ясно стало туркменам — царь проигрывает войну немцам. Кербабаев позволял иметь о том твёрдое убеждение. Иного и не могло быть, учитывая, что над книгой Берды начал работу много позже описываемых событий.
Странно видеть, когда одно не сходится с другим. Ругая за определённое, хваля за прочее, туркмены вскоре поменяли представления о должном быть, предпочитая ругать абсолютно за всё. При этом Кербабаев продолжал описывать, насколько преобразилась жизнь туркмен при царизме. Вместе с тем, Берды оказывался склонен считать, что получив лучшее из доступного, Российской Империи следовало оставить край туркменского народа без попечения, будто бы дозволяя вернуться назад порядкам мусульманства, своеобразно понимаемого местными царьками.
Продолжая повествовать, Кербабаев напрямую подступит к 1917 году. Если кто не знает, гражданская война имела место быть и среди туркмен. Велась она с тем же переменным успехом, как оно происходило в Сибири — белое движение подавляло выступления красных. Отдельный акцент Берды сделал на царьках, коим желалось сохранить власть, чего большевизм их мог лишить. Царьки соглашались выступать под чьим угодно руководством, пусть даже англичан. Они оказывались способны вернуться к прежнему быту, пусть сами подпав под чужую власть. Тем и закончит Кербабаев повествование, благодаря чему будет выдвинут на получение Сталинской премии по литературе.
В 1955 году Берды дописал третью часть «Решающего шага», полностью отступив от беллетристической модели изложения, предпочтя выступить в качестве историографа. Он сухо излагал обстоятельства былого, сообщая факты и делясь собственными предположениями. Читателю становилось известно, каким образом протекали события гражданской войны в краю туркменского народа. И это уже не имело существенного значения, особенно в последующие годы, когда позиция Кербабаева ставилась под сомнение и не признавалась за относящуюся к подлинно происходившему. Тем не менее, вклад в понимание жизни туркмен начала века Берды всё-таки внёс.
Автор: Константин Трунин