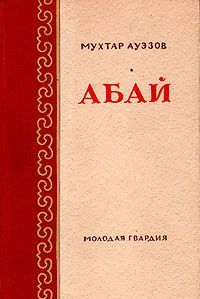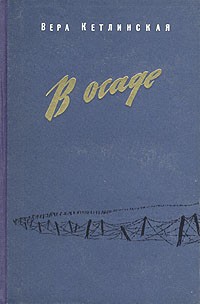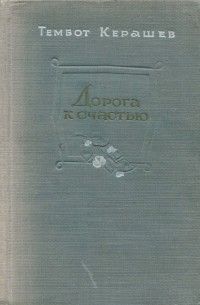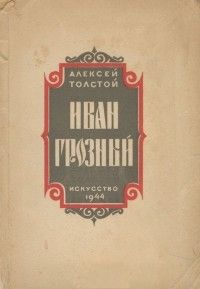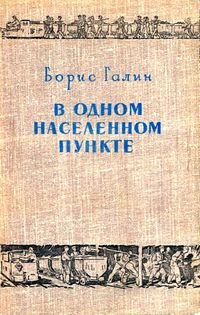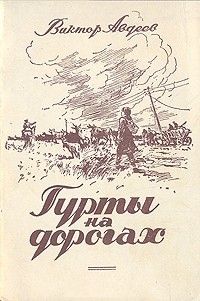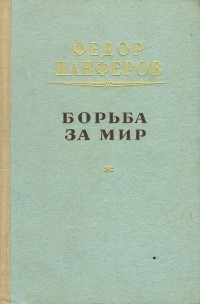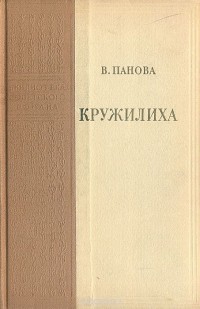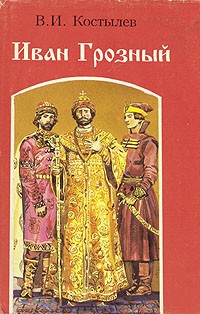Константин Федин «Первые радости» (1943-45)
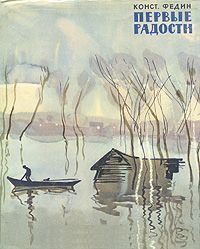
Порою писать невыносимо хочется, и сказать о своих мыслях имеется огромное желание, и даже пытаешься этим заниматься, и вроде выходит нечто сносное. А на деле… На деле ничего не получается. Как же так? Неужели такое возможно? Как тогда быть с тем, что творческие изыскания получали одобрение на самом высоком уровне? Всё-таки, насколько бы странным не казалось, вымучивая «Первые радости», Константин Федин нашёл поддержку в лице круга людей, ответственных за подготовку списков для присуждения Сталинской премии. Не станем искать причин, побудивших найти слова для необходимости включения литературных трудов Федина в число лауреатов. Сочтём это исторической данностью.
«Первые радости» — роман о событиях, случившихся в годы, последовавшие за войной с Японией и предшествовавшие Первой Мировой войне. Тогда общество беспокоил единственный вопрос: когда же государь соизволит дать народу больше власти? Вот за пять лет до того имели место быть события кровавых расправ 1905 года, теперь подобного допускать не следовало. Общество будоражила мысль о возможностях, власть с подозрением относилась абсолютно ко всем. Вот об этом и брался повествовать Федин, не имея определённых представлений о том, как равномерно расположить события. И получилось у Константина создать многослойное творение, где каждый слой описывался отдельно, оказавшись в итоге под видом единого произведения. Вполне допустимо даже уподобить роман Федина каше. Однако, каждый слой представляет самостоятельную ценность. И внимать им следует, не придавая значения другим слоям в доступном вниманию содержании.
Как понравится читателю история про взятку? В царской России существовало негласное правило — принимающих решение требовалось склонять на свою сторону денежным вознаграждением. Но не всё так просто. Казалось бы, оказавшись не у дел, должен получить деньги обратно. Не тут-то было, да и как станешь доказывать дачу взятки? Считай, что сделал добровольный взнос, не запросив соответствующих документальных подтверждений.
А как сцена с беседой людей на реке? Вроде бы удят рыбу, при этом разговаривая обо всём на свете. Иной собеседник вспомнит, как основывали Петербург, каким образом царь Пётр обещал отсель грозить шведу, как он ходил на Лифляндию. И тут же будут воспоминания о детских годах, собеседники сами себе напоминали о счастливых или может наоборот годах, добровольно или может принуждённо, занимавшиеся посадкой деревьев.
Доступна читателю история и про писателя. Его в воскресный день попросили явиться в полицейский участок. Он под подозрением за написание и распространение революционных прокламаций. Попробуй сойти за честного человека, отвечая служителям правопорядка, говорящим с тобой елейным голосом, будто к тебе они не имеют претензий, но обязаны найти виновного, окажись им хоть даже случайно приглашённый в полицейский участок писатель, хотя бы даже и в воскресный день.
Чтобы обозначить время повествования, Федин поместил в роман подробную историю о пропаже Льва Тостого из Ясной Поляны. Со всеми подробностями, какие только могут быть, Константин созидал полотно, отражение волнения буквально каждого человека в Российской Империи, разделяя всеобщее опасение судьбою писателя, имевшего влияние на умы современников.
Как видно, читателю предлагаются разные слои, уместившиеся в описание событий 1910 года. Это не хроника, скорее отражение части процессов, имевших место в тогдашней жизни. Может тем самым «Первые радости» в исполнении Константина Федина должны были способствовать выработке определённого мнения, или читателю следовало обзавестись представлением, почему революция обязана была в скором времени свершиться. В любом случае, читатель сам решит, насколько ему пришлось по духу данное произведение.
Автор: Константин Трунин