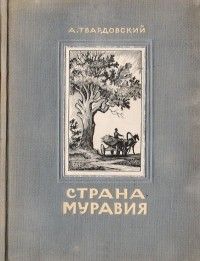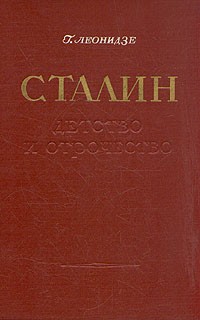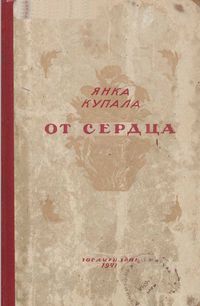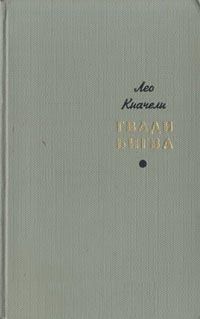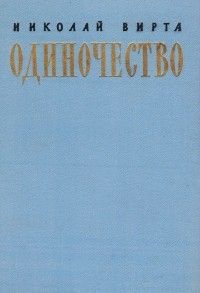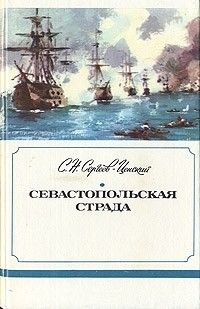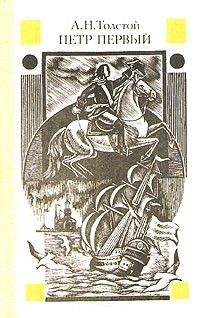Александр Корнейчук «Платон Кречет» (1934)
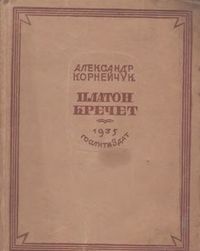
Есть ли у доктора право на ошибку? Говорят, что такого права быть не должно. За всякой неудачей неизменно следует остракизм. Возникает требование следовать определённому стандарту выполнения медицинских процедур, которые создают гарантию непогрешимости. Даже допусти доктор смерть пациента, не отступив от стандарта, к нему не получится применить наказание. И любой медик это понимает, хотя бы таким образом защищённый законом от гнева родственников умершего пациента, как и от самих пациентов, возможно искалеченных. Но как быть с будущим медицины? Уже не получится совершить прорыв, поскольку он не предусмотрен, строго наказываемый в денежном эквиваленте. Что же, прежде подобных ограничений не возводилось. Доктор оказывался волен сам решать, как именно ему лечить пациента. Платон Кречет из тех, кто брался за сложные случаи, ибо он один соглашался оперировать, когда другие хирурги отказывались. Он не боялся брать ответственность на себя, и вполне мог подвергнуться остракизму. Он обязательно был бы осуждён обществом, не случись удачи, заставившей высших лиц города увериться в необходимости существования специалиста, готового действовать вразрез с установленными в медицине правилами.
Зрителю сразу давалось представление о главном лице пьесы. Платон Кречет — хирург, горящий на работе. Действующие лица собрались на сцене и ожидают, когда Платон соизволит их посетить. Повод к тому весомый — у Кречета день рождения. Он бы и пришёл, не случись сложного случая. Все в операционной палате понимали — смерть пациента неизбежна, может только проживёт на день или два дольше. Да, если умрёт, вина ляжет непосредственно на хирурга, будто бы ему не хватило навыка, скорее всего совершившего ошибку, ведь обязательно должно было последовать выздоровление. Почему-то никто не желает понимать, что организм человека порою невозможно сделать обратно здоровым, и облегчить самочувствие никак не получится. Остаётся надеяться на талант доктора, берущемся из гуманных соображений совершить невозможное. Когда звёзды сходятся, пациент может быть избавлен от страдания. Однако, летальный исход неизбежен с равной долей вероятности.
Платона не пожелают понять. Он не вылечил, значит хладнокровно сделал всё для смерти пациента: таково мнение большинства. Удивительно в этом то, что его берутся осуждать даже коллеги. Кто просит Кречета выполнять операции, имеющие едва ли не нулевую надежду на благополучный результат? Из-за его деятельности в статистических отчётах за больницей числится высокая смертность. Значит, страдает репутация медицинского учреждения, пропадает доверие у будущих пациентов, сомневаться начинают и высшие лица города. Получается парадоксальная ситуация. Вроде Платон стремится помогать, но своим энтузиазмом он себя же и губит, вместе с коллегами. Оттого и осуждаем Кречет, от которого требуется браться за случаи, где операция будет с высокой доли вероятности успешной, а безнадёжным пациентам отказывать, находя для того стандартные отговорки. Так и сообщается: пусть люди живут оставшиеся им дни, не умирая под скальпелем.
Против Кречета восстанет медицинское общество, будет написана петиция об его отстранении от медицинской практики. Тучи сойдутся над Платоном, скорее всего грозящие неизбежным увольнением. Так оно обычно и случается, когда лучшие уступают под нажимом мнения менее успешных. Редко с кем случается возможность найти спасительное средство. Проведи Кречет ещё одну операцию со смертельным исходом, как участь его окажется предрешена. Под занавес пьесы водитель главы города попадёт в аварию, ему потребуется сложная операция, хирурги из Москвы не успеют приехать: становится понятно — человеку суждено умереть. Теперь всё в руках Платона. И зритель уверен в положительном завершении медицинского вмешательства. Всё-таки должен иметь доктор право на ошибку! Имея риск, он позволит жить одному из обречённых, что уже само по себе станет благом.
Автор: Константин Трунин