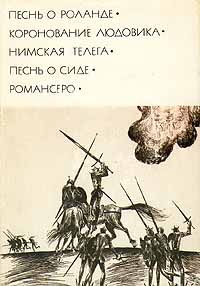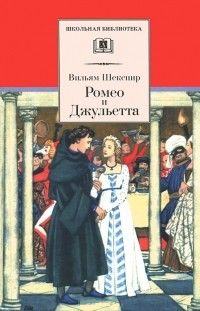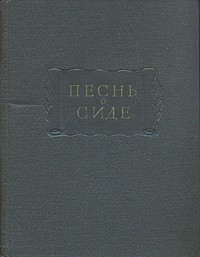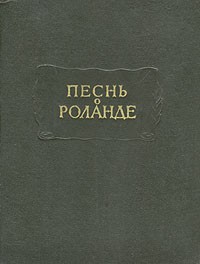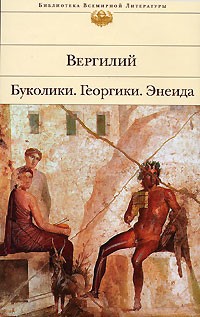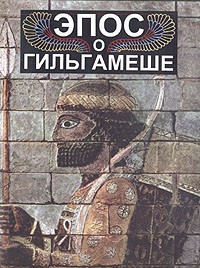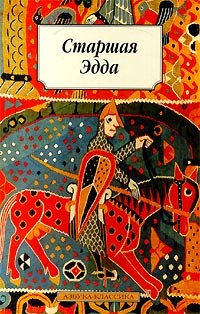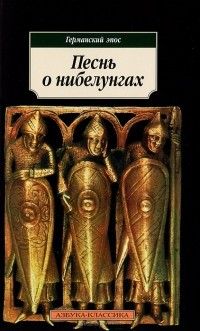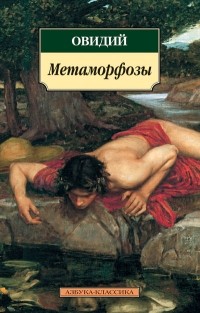Низами Гянджеви «Сокровищница тайн» (1163-76)
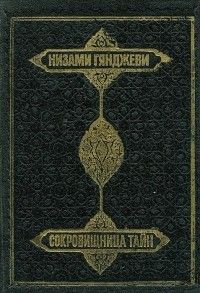
Словами, друзья, не разбрасывайтесь зря. Их, друзья, применяйте любя. Они, слова, ценность несут. Умные это примут, поймут. Что слово одно — важность есть у него? А если нет слов? Прольётся ли кровь? Может лучше молчать? Если бы знать. Понять мудрость сию никому не дано. Попытайтесь, друзья. Или вам всё равно? Обратитесь к прошлым векам, прислушайтесь к умным мужам. Поищите стихи на фарси, вы найдёте стихи Низами. Этот мудрый поэт, прав он был или нет, к справедливым поступкам людей призывал, в каждую строчку он вкладывал лал. Как не слушали при жизни его, так не слушают после смерти его.
О тайнах однажды сказал Низами, поэтично отразил желанья свои. В сих тайнах сокрыт секрет бытия, их достиженье — людская мечта: чтобы бедняк жил без нужды, чтобы правитель жил без войны, чтобы учёный жил без забот, чтобы влюблённый счастливым быть мог, чтобы каждый знал обо всём этом, не становясь прежде поэтом. Восточная мудрость о том говорит, на знании данном Восток и стоит. Много приписывают желаний молве, разрозненной в мнениях пёстрой толпе, чаянья жизни важны мало кому, каждый знает только правду свою. О том ли писал стихи Низами? Важны ли людям стихи Низами?
Двадцать речей сокровенных известно. Каждой речи указано место. Сперва личной мудрости ода хвалебная, поэту для вдохновенья очень потребная. Многим другим пожелает автор добра, умилостивить слушателя наука тонка. Слову поэт скажет нужный эпитет, ему он более лести отыщет. Про немоту сказать не забудет. С немотой разве благо кто-то добудет? Без похвальбы не открыть людских глаз, веки сокроют правду от нас, в уши тогда ничего не проникнет, мудрость, погибнув, в безмолвии сникнет. Слушайте сердце — оно не глина с водой, тот жизнь поймёт, кто подходит с меркой простой.
Но вот Низами, хитрец Низами, прости потомков, поэт Низами, видны ныне нам устремленья твои. Ты говорил, что молчание худо, что лучше молчать, тогда люди счастливы будут. А сам, Низами, хитрец Низами, оставил потомкам наставленья свои. Ты убедил бедняков в их праве на бедность, важнее сытости бедному честность. Нельзя власть имущим мешать беднякам, растущим повсюду сродни сорнякам. Люди заботу всегда позабудут, гордостью люди напитаны будут. Нельзя бедному люду дать важный совет, придёт порицающий мудрость ответ. Это лучше других понимал Низами, принимаем мы наставленья твои.
Главное — что? Не мешать бедняку. Пусть он молча тянет лямку свою. Помощь ему никогда не нужна, ему важней, чтобы процветала страна. В такой стране жить будет легче ему. В такой стране будет легче ему. Не станет давить на плечи ярмо, не коснётся налог сумы его. Не станет правитель проблемы решать, народ, обирая, в бедность вгонять. Не станет правитель в военные тяжбы вступать — народу от этого будет легче дышать. Важнее всего слово одно — прозвано справедливостью оно. Когда справедливость станет важна, тогда и жизнь стать легче должна. Разве не был мудр Низами? Людям важны стихи Низами.
Правда трудна, правду не любят, в тюрьму посадят, жизнь правдолюба загубят. Вступать в конфликт велика ли задача? Какая от конфликта с властями отдача? Не лучше ли писать о проблемах народа? Вот где для духа поэта свобода. Скажи про трудности крестьянского быта и имя твоё уже не будет забыто. А если в тюрьме коротать оставшийся век, так и не вспомнят, кем был человек. Дарованье Низами нам всем очевидно, оно сохранилось — уже не обидно. Пережило творчество поэта разную смуту, как хорошо — пережило разную смуту.
Автор: Константин Трунин