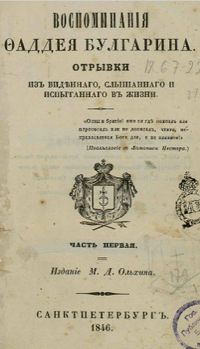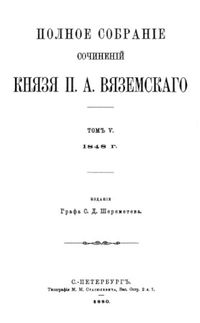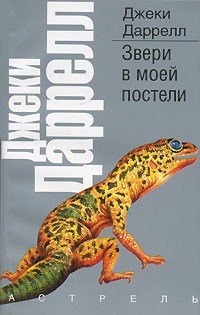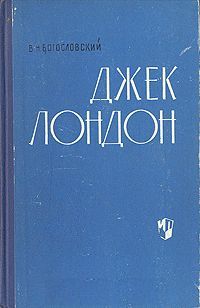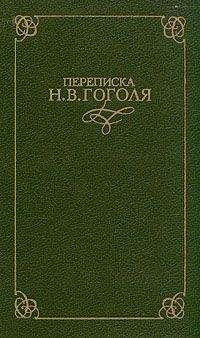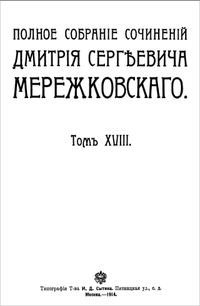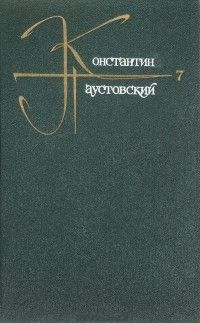Константин Паустовский — Статьи о литературе (1939-65)
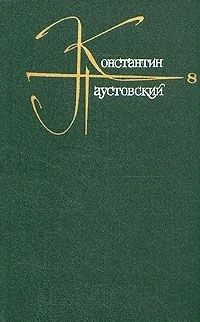
Оценивать творчество со стороны можно разными способами, делясь чаще собственными ожиданиями. А как это делает непосредственно писатель? Ведь может оказаться — мыслит он иным образом, совершенно не задумываясь об определённом восприятии, ему вовсе мало свойственным. Поэтому нужно упомянуть разрозненно написанные статьи, касающиеся непосредственно литературы. Преимущественно, создавались они в последнее пятнадцатилетие жизни Паустовского, за исключением статьи «Радость творчества», опубликованной в «Литературной газете» за 1939 год. Константин говорил читателю, что творческий процесс — огромная для него радость. Вместе с тем, быть писателем не настолько радужно, как кажется со стороны. Любому творцу свойственно чувство тревоги. Обладал пониманием этого и сам Паустовский.
Для журнала «Знамя» в 1953 году написана статья «Поэзия прозы». Константин имел мысль написать о труде литераторов. Разве такое может быть, чтобы писатели создавали произведения обо всём, исключая самих себя? Что это за ремесло такое — писатель? Нужно определиться. Паустовский серьёзно размышлял, а читатель теперь знает, как через два года — после статьи — Константин поставит последнюю точку в «Золотой розе», раскрыв всё то, о чём он пока ещё только мечтал сообщить. Осталось добавить критически важные обстоятельства для писательской профессии — не существует единого верного рецепта написания произведений, как нет и определённого языка, с помощью которого можно писать тексты. Против одного Паустовский выступал твёрдо — долой язык формализма!
Накануне Всесоюзного съезда советских писателей в 1954 году, Константин написал для «Нового мира» статью «Большие надежды». Был продолжен разговор про язык. Писатель должен уважать свой основной рабочий инструмент, обладать богатым словарным запасом. Вместе с тем, Паустовский готовился высказать ещё одно твёрдое убеждение — творя на русском языке, следует помнить о самом русском языке, а если произведение пишется на другом языке, то придерживаться словарного запаса сугубо его. Как быть с таким мнением Константина? Лишь сказать, что всякий живой язык постоянно развивается. Получается так, что формалистом Паустовский всё-таки стал, раз поставил необходимость выражения творческого порыва в определённые рамки.
К следующему съезду писателей, то есть в 1959 году, Константин написал статью «Бесспорные и спорные мысли» теперь уже для «Литературной газеты». Авторитетов для него больше не оставалось, раз он смело выступил с критикой Льва Толстого, обвинив, будто герои «Анны Карениной» вели себя не так, как им это требовалось делать. По какой логике им следовало себя вести? Видимо, Паустовский желал видеть в произведениях классиков такой же ход мысли, какой должен быть свойственным советскому гражданину. В этой же статье Константин выделил ряд молодых перспективных писателей, поместив в их число Юрия Бондарева.
Статья «Содружество муз» от 1959 года была опубликована лишь в 1972 году в сборнике сочинений Паустовского «Наедине с осенью». Основное её содержание касалось необходимости одновременного существования всех писателей. Не должно быть вражды между именитыми — звёздами первой величины — и прочими, вплоть до их полной незначительности. Литературный процесс не может подразумевать соперничества. Не сейчас, тогда потом, но читатель найдёт время, чтобы придать значение одним и полностью забыть других.
В газете «Известия» за 1960 год вышла статья «Живое и мёртвое слово». Константин сказал, насколько противен ему мёртвый язык советского бюрократизма. А для журнала «Вопросы литературы» в 1965 году написал статью «Чувство истории», где попытался объяснить, каким образом писателю следует относиться к отображению прошлого. Оказалось, историческая истина не так уж важна! Сам писатель должен внутренне понимать правду былых дней, о чём и повествовать. Так Паустовский поступил при описании жизни Шарля Лонсевиля, пользуясь обрывочными свидетельствами о нём. Тем же образом полностью придумал письмо, якобы из-за которого принялся исследовать «Кара-Бугаз».
Автор: Константин Трунин