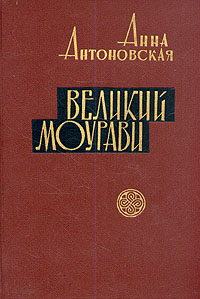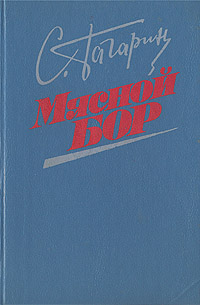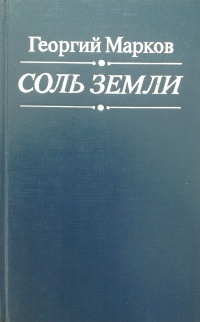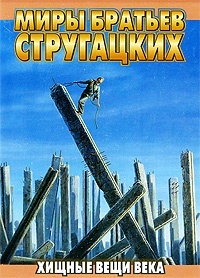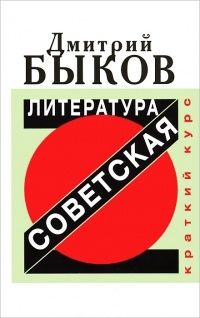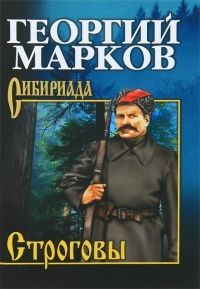Аркадий и Борис Стругацкие «Хромая судьба» (1967-82)
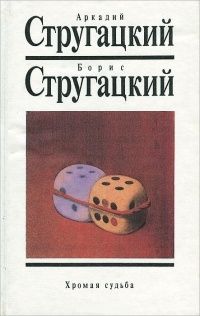
Хромая судьба у гадких лебедей, да и лебеди хромы от гадкой судьбы.
Тяжела доля писателя, если он не может говорить о том, о чём ему хочется. Его переполняет от мыслей, он жаждет ими поделиться, но вынужден быть только с самим собой, поскольку у него нет возможности открыто выражать собственные взгляды. Трагичность произведений Стругацких в том и заключается, что они весь творческий путь предлагали читателю иносказания, наполненные аллюзиями, о смысле которых каждый должен был догадаться самостоятельно. Печаль усиливается от смены поколений, когда новые читатели никогда не смогут до конца понять смысл наполнения творивших некогда писателей. А ведь затрагивали Стругацкие действительно важные темы, постоянно находясь на грани, давая страницам произведений право на существование вне стен каких-либо издательств. И в этом ещё одна трагедия. Могли ли знать братья о скором наступлении описываемой ими реальности? И реальность эта ничем не лучше возведённых государством стен для самих писателей. Кто же мог помыслить о превалирующем значении жадности, низводящей некогда свободно распространяемую литературу под ограничения авторского права.
К слогу Стругацких трудно привыкнуть. Их манера — бесконечные диалоги. Действующие лица беседуют друг с другом, рассуждая о разном. Как знать, может братья говорили между собой, оформляя сказанное в текст? Они затрагивали множество вопросов, предлагая или утаивая ответы от читателя. Стругацкие больше предполагали, неизменно опираясь на действительность. Они думали о будущем, представляя его себе тем или иным. Касательно «Хромой судьбы» — это тоталитарное государство, автоматическая цензура, борьба с инакомыслием, акселерация новых поколений. Размышляют братья и над отсутствием обратной связи с читателем — им неведомы люди, знакомые с их произведениями. Поэтому Стругацкие не могут с твёрдой уверенностью заявлять о верности каких-либо утверждений, пока люди будут лишены права открыто выражать личное мнение.
В одном Аркадий и Борис правы точно. Это касается их предположения о возможности создания инструмента, позволяющего оформлять слова в текст, а сам текст автоматически анализировать не только на грамматические и пунктуационные ошибки, но и предугадывать смысл написанного. На самом деле, практически всё реализовано было ещё в конце XX века; в дальнейшем же человечество обязательно столкнётся с необходимостью фильтрации информации в угоду каких-либо нужд. Не общество говорит о желаемом быть в действительности, а некие субъекты решают возвести новую стену на месте разрушенной старой опоры, пускай и столпа, бывшего важной составляющей общественных ценностей. Очередное десятилетие становится переломным моментом, полностью меняя самосознание людей. И существование автоматической цензуры будет актуальным всегда, ведь некогда дозволенное поменяется местами с запрещённым, а с запрещённого соответственно снимут ограничения.
Прогресс всегда будет находиться в руках государства, если это необходимо. Государство само заинтересовано в развитии технологий. И в один прекрасный день окажется, что это делалось ради единственной цели — получить полный контроль над населением одной отдельно взятой страны и когда-нибудь всей планеты. Стругацкие не обвиняют в этом общество, ведь не люди виноваты, если им приходится скакать с шашкой на танк, а те процессы, которые в комплексном понимании приводят к извращённой реализации некогда задуманных идей, призванных улучшить жизнь. История наглядно показывает бесплодность всех поступков, снова приводя чей-то гений под осознание случившихся из-за него катастрофических последствий.
Стругацкие пытались найти решение, но так и не смогли его найти. Человечество снова будет поставлено перед выбором. А после это произойдёт ещё много раз. Рецепта для счастья не существует: если желаешь бороться — борись, если предпочитаешь молчать — молчи; в том и другом случае на горизонте всегда будет маячить горе.
Автор: Константин Трунин