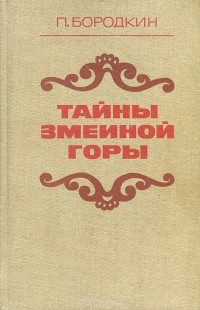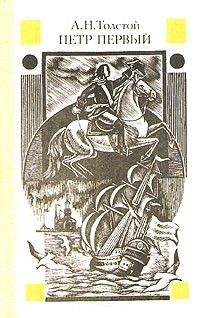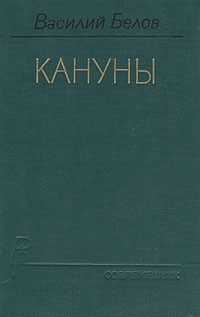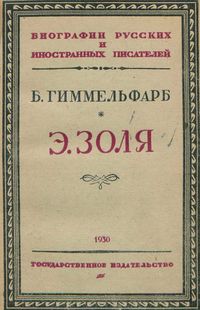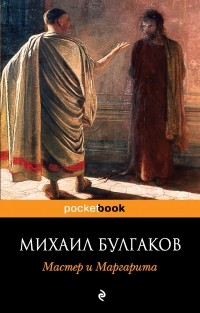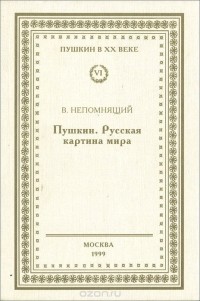Константин Паустовский – Очерки о странствиях 1923-32
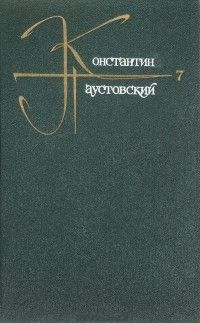
Куда бы Паустовский не отправлялся, он составлял очерки, чаще короткого размера. Особых творческих изысков не прилагал, говорил по существу, выражая собственное мнение об увиденном. Впервые очерки о странствиях стали выходить в газете «Моряк» — это заметка от 1923 года «С берегов Куры. Тифлис»: описывалась красота природы, отсутствие следов гражданской войны и повсеместно развешанные громадные красные флаги. В том же году в газете «Гудок Закавказья» — статья «В тысячелетней пыли». За следующий год ещё два очерка о странствиях — «Письма с пути» и «Приазовье», опубликованные в «Моряке». Там же за 1925 год размещены статьи «Вишня и степь» и «Керчь» (иначе «На предгорьях Крыма»). Особого смыслового наполнения они не содержали.
Последующие очерки о странствиях выходили время от времени, придерживаясь или не придерживаясь определённых изданий, порою выходя в авторских сборниках, либо оставаясь читателю неизвестными на протяжении длительного времени. Так очерк «Где нашли золотое руно (Абхазия)» за 1928 год заметно отличался от прежних схожих трудов, теперь Паустовский старался шире рассматривать доступное его вниманию. Мало выразить эмоции, требовалось глубже проникнуть в понимание традиций народов, живущих в новом для автора краю. Например, Абхазию населяет множество национальностей, среди которых есть потомки флорентийцев, отчего их не признаешь за издавна тут проживающих. Абхазская почва даёт богатый урожай, а вот дно прилегающего моря хранит опасность — оно отравлено.
Очерки «Ночь в Доссоре» (изначально «Великая Эмба») и «Подводные ветры» — оба за 1930 год — публиковались позже на один и два года соответственно. У читателя тех дней, знакомого с творчеством Константина, возникало чувство повторения. Усвоенное им из содержания ранее опубликованных работ, вроде «Кара-Бугаза» повторялось в после вышедших статьях, без внимания к тому, что они писались задолго до. Читателю скорее следовало думать о созданных заранее заготовках, из которых и сплетались новые литературные труды Паустовского. Как яркий пример: история времён гражданской войны, когда люди были высажены на бесплодный остров, отчего им грозила неминуемая смерть.
В 1932 году Константином написан очерк «Мурманск», представленный для ознакомления лишь в 1958 году при публикации шеститомного собрания сочинений. Только тогда он стал органично сочетаться с тематикой произведений о северных краях России, таких как «Судьба Шарля Лонсевиля» и «Озёрный фронт». Для читателя создавалось впечатление части страны, где по необходимости возник полноценный пролетарский город. Некогда туда вела железная дорога, чей путь преграждало море. Город возник позже, сперва неспешно, а потом бурно разрастающийся. В том городе не селились навсегда. Прожив в Мурманске два года, человек считался уже старожилом. Женщин там и вовсе не встречалось, а мужчины — только трудоспособного возраста. Тем не менее, к 1932 году его одновременно населяли до сорока тысяч человек. Напрямую через океан до Нью-Йорка от него насчитывалось всего шесть тысяч километров. Вот такой вышел Мурманск в представлении Константина, а очерк о городе скорее стал набором любопытных заметок, нигде не нашедших пристанища, кроме хранилища в авторском архиве до лучших времён.
После Константин надолго замолчал. Он продолжил писать очерки о Кавказе, Чёрном море, создавал портреты примечательных людей, но краткой формой не ограничивался. Очерки о странствиях, выражающиеся особым подходом и некоторой отстранённостью, создаваемые словно случайно, дабы хотя бы о чём-то написать, Константин отложил до 1948 года, либо нам о том просто неизвестно, вследствие объективных причин: записи не воспринимались всерьёз, уничтожаемые согласно сомнения в их надобности. В действительности, первые очерки о странствиях Паустовского не содержали важности, но сохранились благодаря публикации в периодических изданиях.
Автор: Константин Трунин