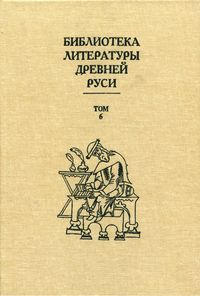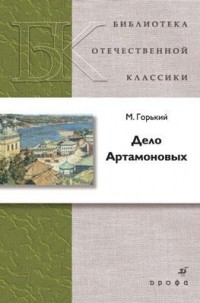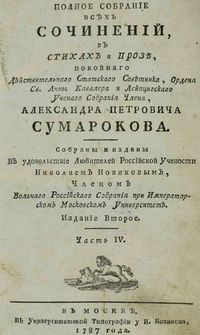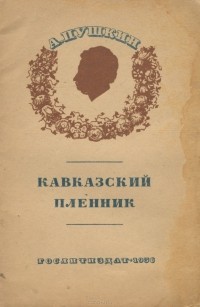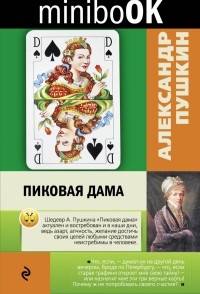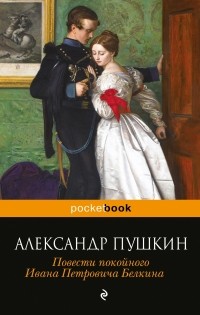Виктор Пелевин «t» (2009)
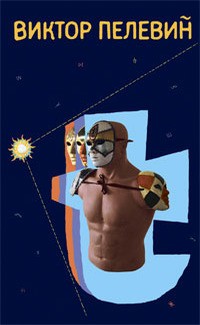
мир велик но не настолько всего в мире два значения одно из них отражает существующее второе отмечает его отсутствие сочетание сих значений допускает воспринимаемое нами многообразие посему куда бы не вела человека фантазия всё неизменно сводится к простоте следуя из означенного искать сверх данного допустимо ради цели потешить умение связывать слова в предложения
вселенные сливаются в вязкий комок ничего не значащих определений где то граф лев толстой а где то практически пуленепробиваемый сторонник непротивления злу насилием железная борода одно накладывается на другое некогда самостоятельная единица ныне нуль из чьей то фантазии
тут бы пора сказать смешно когда тянет улыбаться но не смешно когда тянет покрутить пальцем у виска начав рассказ с вольной трактовки вероятного прошлого пелевин закончил рассуждениями о политеизме понимаемый им в качестве отражения коллективного творческого процесса допустить такое возможно учитывая необходимость увлекательного начала переходящего в океан возможных продолжений
река фантазии вынесет через размытые берега с искажёнными до неузнаваемости руслами это раньше люди помнили о течении воды в определённом направлении покуда чаяния не обрушили опоры натурализма заново позволив реалиям сюжета воплощать иллюзорно понимаемый романтизм всё истинно движется циклами дабы некогда принятое забыть в угоду прочим писательским желаниям
куда несло пелевина дав зачин обозначив происходящее он забыл к чему вёл повествование не получилось выдать действие за модернистические наклонности даже нет потока сознания и нет фэнтези если кому то так могло показаться над всем навис абсурд причём не отражающий обыденность а трактующий происходящее на страницах самого абсурда ради
и когда пелевин понял как трудно дастся ему подобие философпанка он сказал о его более всего беспокоящем обыденности писательской профессии современного ему времени а именно речь о необходимом задействовании в творчестве помощников прописывающих закреплённые за ними моменты в которых они более сильны пусть так как говорится читателю только останется думать какое отношение это имеет к самому пелевину если и исполнявшего чью то роль в произведении то определённо демиурга
отправив толстого искать оптину пустынь пелевин не имел о ней представления пока герой будет идти в конечный пункт путешествия что нибудь нарисуется и надо сказать рисуется самое разное порою не совсем адекватное желаемое быть принятым за правду но не будет всего в таком количестве ибо истина доказывается а не дополняется за счёт прочих истин более и более заводя в абсолютный тупик
осталось разобраться почему в данном тексте нет знаков препинания и прочих важных атрибутов обязательно должных тут присутствовать их просто нет и не надо о том задумываться поскольку к сему абзацу в голове обязательно выстраивается определённая модель понимания легко обходящаяся без надуманных для письменной речи ограничений примерно в том же духе написан роман t пелевиным автор отрицает нормы понимания адекватности подменяя их удобным ему трактованием всего и вся
как уже сказано мир состоит из всего и из ничего поэтому буквы являются лишними элементами достаточно оставить чистую доску позволил каждому написать на ней желаемое или лучше оставить её в чистоте показав тем достигнутое познание высшего идеала совершенства выраженное через осознание себя в качестве единственного и неповторимого существа умеющего говорить пока и это умение не омрачило белизны чистой доски
сложное состоит из простого казалось бы и казалось бы простое составляет сложное
Автор: Константин Трунин