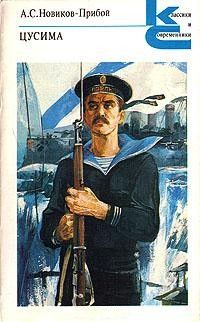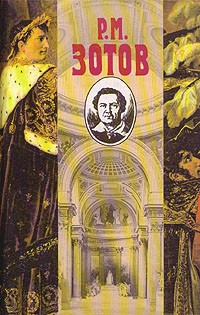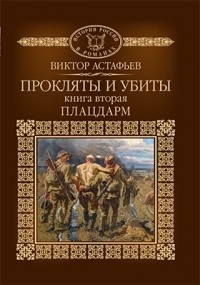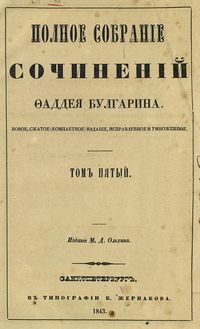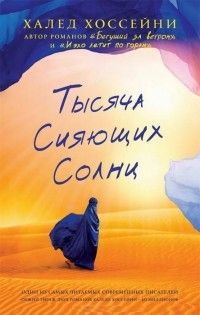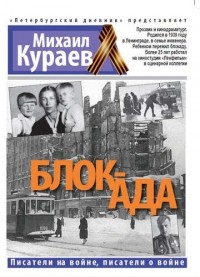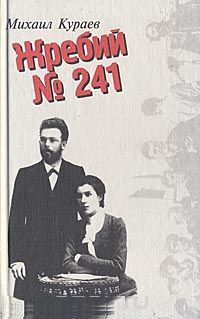Анри Барбюс «Огонь» (1916)
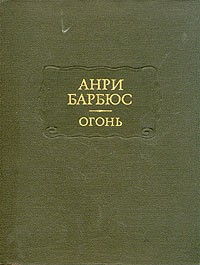
Французы! Что думать о них? Великим народом более никто и никогда их не назовёт. Прошло то время, когда о принадлежности к французскому народу человек мог заявлять гордо. Теперь давно уже не так. Одним из первых это подметил Виктор Гюго. Он обратился к французам, взывая к их славному прошлому, укоряя измельчавших современников, чьими предками являлись храбрецы. Потомки Гюго не стали изыскивать права сильного, продолжив утопать в болоте либеральности. Они опустились до того, что рядовой солдат отныне мог поливать грязью военное командование и высшие политические силы страны, оставаясь за то безнаказанным, к тому же, получая литературные премии, вроде Гонкуровской. Да, Анри Барбюс излил горечь на страницы «Огня», высказавшись о наболевшем. Данным поступком он лишь подтвердил тезис о слабости французской нации. Теперь точно ясно, что на планете существует единственный народ, способный без боя отдавать города, уповая на должное последовать мирное соглашение. И до той поры французы останутся слабыми, пока в них не проснутся львы, хотя бы времён Наполеона, а ещё лучше века Теодора д’Обинье, чтобы уметь отстаивать правду не книжными публикациями и не мирными акциями, а силой. Впрочем, храбрость в жилы французов вольют другие народы, подменив само понимание француза, уже не совсем европейца.
Как прежде воевали? Побеждала самая стойкая армия. Её солдаты уверенно маршировали под градом картечи, не замечая пушечных ядер и свиста пуль. Никто не прятался в окопах и не возводил укреплений, ежели к тому не имелось существенной необходимости. Сходились на местности, не рассыпаясь, строго удерживая позицию, находясь с боевыми товарищами плечом к плечу. Военная наука с той поры шагнула вперёд, вынудив искать иные способы борьбы. Отныне требовалось сохранять жизнь солдат, иначе в чистом поле они будут моментально уничтожены. Солдаты это понимали, отчего мельчал их моральный дух. Более не казалось нужным проявлять отвагу и заряжать уверенностью товарищей. Отнюдь, лучше укорять действительность и лить слёзы на беспомощность. Солдат стал опасаться абсолютно всего, особенно боясь потерять жизнь. Такова общая тенденция, но французы слишком дорого оценивали своё существование, что называется банально просто — трусостью.
Нет, французы держались стойко. Они лишь занимались бузотёрством. Они говорили, как им противно воевать. Они не хотели умирать за других, остающихся вне сражений. Ведь не каждый в армии воевал, многие специальности оставались вне войны, многие уклонялись от призыва на службу. В целом, месить грязь приходилось людям, которые не могли понять, зачем они это делают. Та Мировая война велась из не до конца выясненных причин. Но люди каждый день умирали, принимая смерть, приходящую к ним внезапно. Просто твой товарищ, с кем ты говоришь, оказывался разорван снарядом. Сохранить благоразумие в такой обстановке не представлялось возможным. Однако, прежде в войнах такие ситуации случались сплошь и рядом, вследствие чего никто не паниковал. Теперь солдат не мог осознать, как ему быть и для чего продолжать находиться на передовой. Виной тому и то обстоятельство, что командование отдалилось за пределы полей сражений, оставив солдат сражаться в одиночку. И это вызывало основное недовольство.
Барбюс дал ясно понять — он желает честной войны. Потому в нём и засела трусость — он не знает, чего ожидать от следующего мгновения. На честной войне не должно быть никакого другого оружия, кроме того, благодаря которому солдаты могут сходиться на поле боя лицом к лицу, добиваясь права на жизнь согласно собственных способностей. А ещё лучше и вовсе не допускать войн. Делясь подобными мыслями, Барбюс забыл о необходимости бороться любыми средствами, благодаря которым сможешь отстоять право на существование своего народа. Если постоянно лить слёзы и искать виноватых — война будет проиграна. Достаточно понять истину — кто ищет справедливость, оной никогда не найдёт, зато потеряет всё.
Автор: Константин Трунин