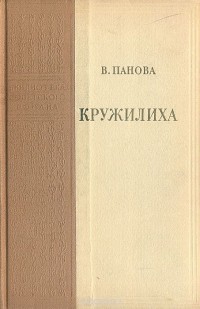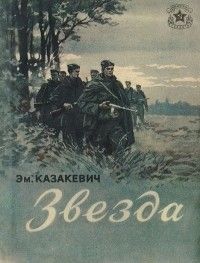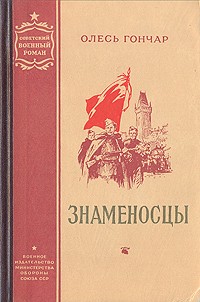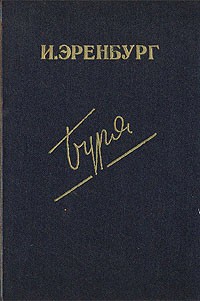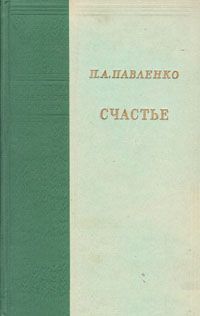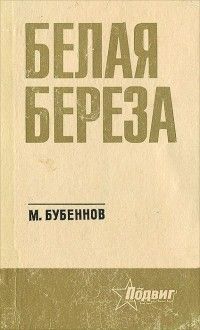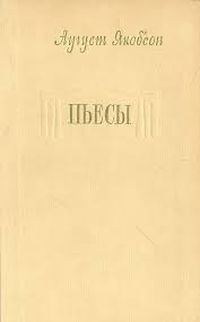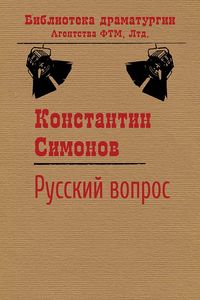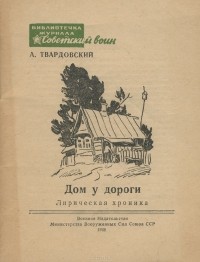Фёдор Панфёров «Борьба за мир» (1945-47)
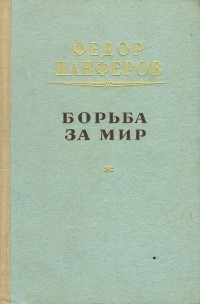
В России всегда так, чтобы начать за что-то бороться, сперва нужно за это пострадать. Примером такому мнению предлагается считать произведение Панфёрова «Борьба за мир». Ведь как так получается? Страна вступила в войну неподготовленной. Не удалось поставить на фронт, едва ли ничего… как бы не пытались теперь говорить, превознося умение из руин созидать могущественное строение. Отнюдь, в войну Советский Союз вступил, не умея совладать с продвижением сил Третьего Рейха, оказывая сопротивление за счёт мужества людей, привыкших начинать бороться, так как страдания никогда для них не прекращались. Итак, дабы победить, требовалось наверстать упущенное, возведя заводы, способные поставить продукцию, благодаря которой Красная Армия опрокинет врага и обратит его поступь вспять.
Перед читателем предстанет блистающий мир, где трудовой народ жил, довольный существованием. Перед глазами обыкновенный мужик, радующийся возможности оказывать всем посильную помощь, привыкший считать: если делаешь, то делай для общего удобства. Вот он набрал большое количество грибов, готовый рассказать, как это ему удалось. Да не успел — пришла весть о начале войны, которой не ждали. Обыкновенный мужик оказывается не простым гражданином — он умелый организатор, способный в чистом поле возвести завод. Его вызывают в Москву, разрешают набирать каких ему угодно людей, только бы к обозначенному сроку наладил производство. Он сможет реализовать замысел, организовав мощности для производства моторов. И тут читатель должен обязательно спросить: а до войны завод построить не могли?
Завод построить не просто — нужно всё заранее рассчитать и предусмотреть. Как? С рытья котлована и до кирпичной кладки! Не знать, какие понадобятся материалы — требуется назвать точную цифру сразу, до начала работ. Пусть не пугаются значения в два или три миллиона кирпичей. Следует сказать точно, поскольку потребуется строительство сопроводительной инфраструктуры. Да, завод — огромный город, располагающий на своей территории множество объектов, не имея ничего лишнего. Панфёров пытался доходчиво объяснить читателю, какое это важное и ответственное дело — возводить заводы.
Производство налажено. Что делать? Выполнять поставленную партией задачу. Если сказано произвести определённое количество моторов, пообещать на четыреста больше. А если случится нехватка материалов? Вдруг Советский Союз продолжит уступать Третьему Рейху? Быть такого не может. Как не думали о нападении, так всерьёз не воспринимают должного последовать поражения. На ком вина? То остаётся вне внимания читателя. Придётся рабочим напрягать силы, когда материал для производства поступит, чтобы выполнить норму, дав сверху обещанные четыреста моторов.
Рассказав об этом, Панфёров бросит директора завода на фронт. Тот должен вернуться в родную деревню, куда пришли враги. Обязательно следует рассказать о зверствах немцев, совершавших непотребства. Допустим, они торговали оружием, придавая ему цену историями об убийстве людей, им совершённым. Ещё немцы насиловали советских граждан, делая то при большом скоплении людей. Почему акцент именно на таком? То казалось угодным партии.
Конечно, Панфёров — один из ведущих литераторов своего времени. С 1926 года он был сперва главным редактором «Сельского журнала», затем «Октября». Но и он не мог говорить о чём-то, если того желал. Ему следовало говорить так, как то должно было быть им произнесено. И если обмолвится или выскажет точку зрения, способную показаться не соответствующей сложившемуся в обществе мнению, будет низведён до рядовых работников пера. Собственно, так произойдёт в 1953 году, а пока он писал в ожидаемом от него духе. Нет, «Борьба за мир» — не книга, должная кануть в Лету. Она — показатель того, что общественное мнение способно влиять на происходящее. Причём неважно, при каком политическом режиме то будет происходить.
Автор: Константин Трунин