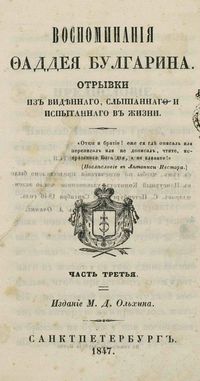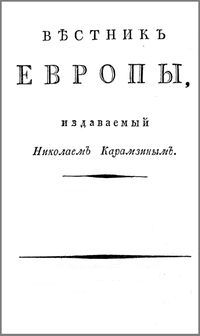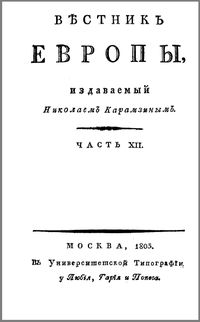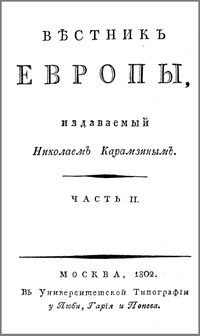Константин Паустовский — Письма 1915-16
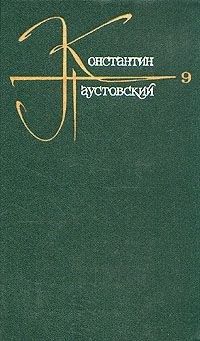
Как разобраться в творческом наследии Паустовского? Сделать это довольно непросто. Всё дело в том, что его произведения постоянно дробятся на части, представляемые в виде самостоятельных работ. Поэтому нужно истинно интересоваться сугубо творчеством Паустовского, позабыв обо всём остальном. То есть впору давать зачин таким учёным от литературоведения, каковые станут именоваться паустовсконистами, исследователями паустовсконистики. Уже само их именование отражает сложность восприятия со стороны. Так оно и есть. Конечно, можно следить за редкими выпусками периодического издания «Мир Паустовского», либо иным образом выискивать произведения писателя. Однако, порою можно просто открыть какую-нибудь монографию, вроде сего труда, откуда и черпать информацию, пусть и довольно субъективного содержания.
Самыми ранними литературными трудами Константина являются письма, датируемые 1915 годом. Писал он Екатерине Загорской, своей девушке. Был Паустовский тогда на фронте Мировой войны (ещё не именовавшейся Первой — по счёту), пребывал в качестве санитара, помогал перевозить раненных, оказывая им помощь во время передвижения по железной дороге. Разъезды помогли ему вернуться к воспоминаниям детства. Уже в апреле он побывал в Дерпте и Люблине, делился впечатлениями от посещения еврейского квартала. Посещал Паустовский и Галицию.
Участвовать в боевых действиях Константину, конечно же, приходилось. На его руках умер мальчик, раненный во время налёта бомбардировщиков. Бомбы сбрасывались прямо на поезд, в котором находился Константин.
Между письмами с фронта попадались и письма о впечатлениях от посещения Москвы. Что же представлял из себя город, некогда давший начало для Российской Империи? Паустовский увидел его в упадке, переполненным от творимого на улицах беспредела. Как не набраться юному сердцу дум, ежели в перерывах ухаживания за раненными он читает Рабиндраната Тагора? Явно осознавал Константин, насколько прохудился мир, покуда люди сходят с ума, проявляя желание друг друга убивать.
Писал с фронта и родственнику своему — Высочанскому, рвавшемуся на войну, видимо пропитанному романтическими представлениями, каковыми переполнялись произведения классической литературы XIX века. Что такое война? Это не возможность проявить отвагу и сделаться героем, постояв за страну. Скорее, война — это бесконечные переходы, чаще по грязи, ещё чаще ночные. И умирают больше не от полученных в бою ран, а подхватив инфекцию, либо истощив организм иным образом.
К концу 1915 года заболел и сам Паустовский. Врачи прописали ему полный покой, запретив читать и писать. Указание Константин выполнял ответственно. Удручало его молчание Екатерины Загорской. Прекрасно можно понять, какой печалью переполняется сердце влюблённого юноши, когда девушка, горячо им любимая, ничего не желает о себе сообщать.
Болезнь дала Константину возможность вдохнуть вольного воздуха. С января 1916 года он уже в мечтах об учёбе в университете. Теперь он будто бы не подлежал призыву. Настроение улучшалось, к Екатерине неизменно обращался на задорный манер, называя восточным именем Хатидже. Но в феврале Константина всё-таки призвали. Поехав, он принял решение вернуться обратно в Москву. Екатерина уже уехала в Севастополь, чем омрачила дни Паустовского, в пустых терзаниях проводившего дни, желая вернуться к прежнему общению. Чем тогда он занимался? Бесцельно бродил. Пробовал работать, но переходил с завода на завод, пока не уверился в необходимости ехать в Одессу. Тогда же — в одном из февральских посланий — он осмелился назвать Екатерину будущей женой.
Судьба должна была свести два сердца. Только как? Константин не мог приблизиться к Екатерине. Сперва он оказался послан в Екатеринослав, где на заводе делал гранаты. Вдохновение не приходило в окружении скверно настроенных людей, угрюмых до невозможности. Затем переезд в Таганрог. Пришлось побывать и в Юзовке, где наблюдать за гиблым местом под названием Юзовский завод — тот самый, описанный Куприным, послуживший причиной для написания им «Молоха».
В апреле страшное известие! Погибли оба старших брата. Тогда же Константин пробовал себя в написании лирических стихотворений. Расценивать их нужно сугубо с позиции пробы пера.
Летом Константин и Екатерина поженились.
Автор: Константин Трунин