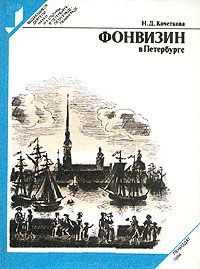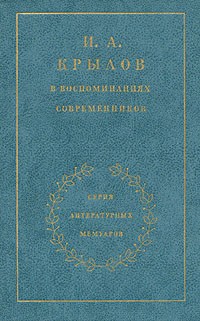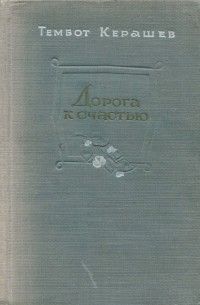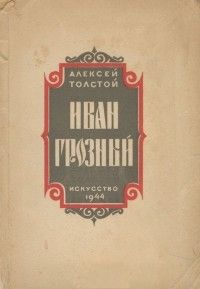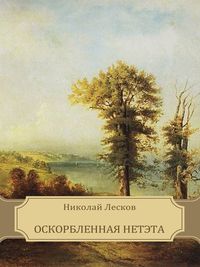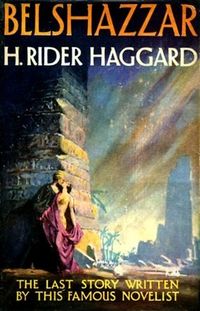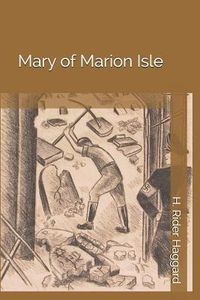Вера Кетлинская «В осаде» (1942-46)
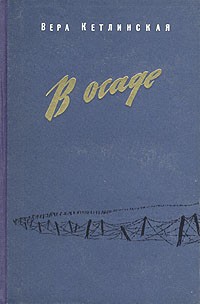
Как рассказать про Ленинград в военное время, избежав того, о чём повествовали другие, сообщая про трудности мирного населения? Нет, не закрывая глаза на трудности. Как раз и сообщая о трудностях. Таким образом поступила Вера Кетлинская, начав создавать литературное произведение с первых дней блокады и продолжая уже по окончании войны, может не ведая, в каком тоне будут после писать о блокаде, делая это с особым чувством, должным быть понятным человеку, причастному к суровости тех дней. Только понять смогут не все, для этого требовалось пройти через похожие испытания. Это может показаться неуместным, только от действительности не уйдёшь, говоря о столь важном для советских граждан событии, Вера оставалась суха в изложении, не помышляя создавать ладный слог для лучшего восприятия текста. Её произведение — это книга о войне, где война стоит на первом месте, описываемая словами простого человека, воспринимающего боевые действия взглядом стороннего наблюдателя.
Что такое бой в воздухе? Это самолёт, совершающий манёвры. Это лётчики, занимающиеся делом борьбы с противником. Как происходит движение в небе? О подобном лучше писать, обладая даром красивого изложения, или будучи хорошо осведомлённым, принимавшим непосредственное участие в тех или похожих боях. Если знаешь о воздушных сражениях от других или просто довелось оные лицезреть, при этом не обладаешь способностью отразить на бумаге — лучше не стараться. Вера Кетлинская как раз не умела, что не мешало описывать баталии, наполняя страницы невнятным отражением накала страстей и происшествий. С таким же успехом можно рассказать про ребёнка, устраивающего воздушный бой между игрушечными самолётиками. А ведь в настоящих боях участвовали люди, понимавшие, насколько близок момент их смерти. Отчасти понимала это и Вера Кетлинская, правда в ином ключе, сообщая про сложности с самолётами на советской стороне, о несовершенстве конструктивных особенностей. Потому и выходило, что потерпев в бою поражение, лётчик не сможет больше летать из-за отсутствия самолётов на замену, что Вера Кетлинская не забывала отразить на страницах.
Что можно сказать про производство в осаждённом городе? Людям всё равно приходилось работать, дабы обеспечивать себя и фронт. Некоторые читатели знают, с какими сложностями сталкивалась 2-ая ударная армия, та самая, которая не позволяла силам Третьего Рейха взять город, сдерживая врага едва ли не на подступах к Ленинграду. Вероятно, о чём Вера Кетлинская не говорит, её снабжением занимались оставшиеся в городе заводы. Но о чём следовало писать, так о гибели рабочих на производстве. Умирали преимущественно от налётов. Вера Кетлинская посчитала необходимым рассказать про одну из таких трагедий. Отец семейства погиб при подобных обстоятельствах, теперь предстояло рассказать его семье о его гибели.
Иногда Вера Кетлинская делится информацией, о которых она узнавала. Например, блокада Ленинграда является важным моментом войны. Отнюдь, мужество ленинградцев тут имеет второстепенное значение. Самое основное, о чём говорит Вера Кетлинская, не сумев прорвать блокаду, немцы не имели возможности соединиться с финнами, вследствие чего мог наступить перелом в войне. Впору вспомнить эпизод наполеоновских войн, когда отказ шведского короля для участия во вторжении империи французов в Россию послужил одной из причин, почему государству Александра I удалось выстоять и повернуть поступь врага вспять.
Таков взгляд со стороны на такой же взгляд со стороны, может даже с такой же степенью объективности. Однако, Сталинской премией, пускай и третьей степени, награждали не из простых побуждений. Может это связано с тем, что среди прочих авторов тех лет, Вера Кетлинская сумела одной из первых донести до читателя литературное описание блокады Ленинграда.
Автор: Константин Трунин