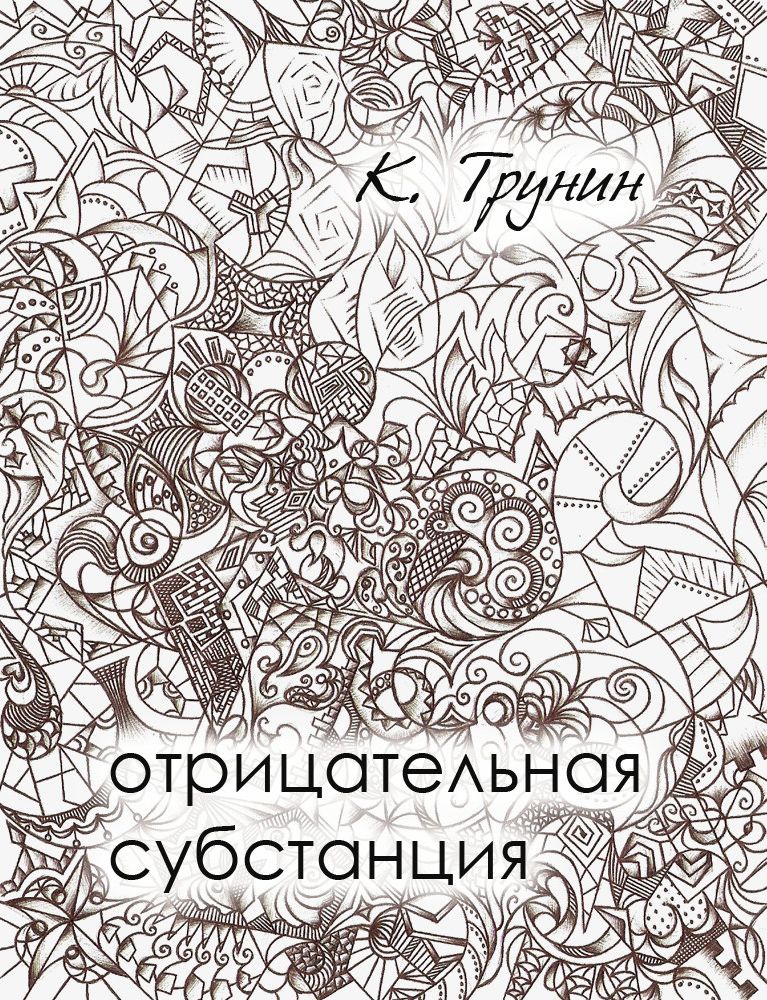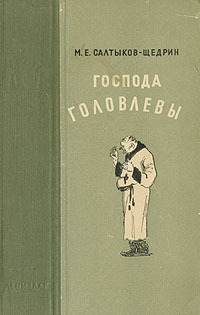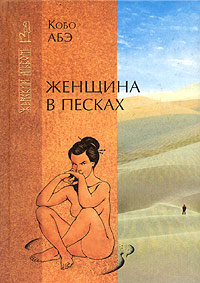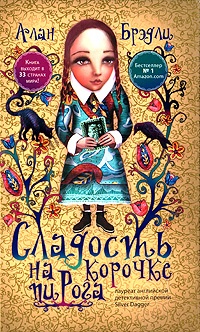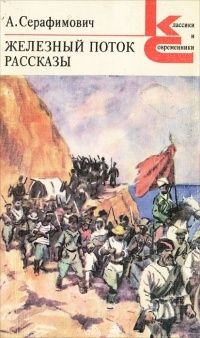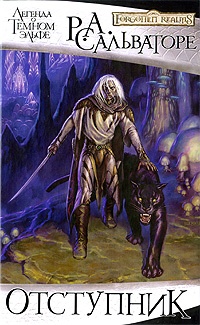Джефф Вандермеер «Аннигиляция» (2014)
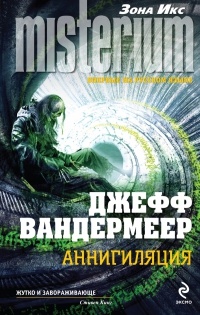
Ситуация с аннигиляцией у Джеффа Вандермеера скорее напоминает стагнацию. Понятно, что автор хотел создать произведение, ничем не уступающее «Хребтам безумия» Говарда Лавкрафта. Но получилось у него нечто более схожее с творчеством Урсулы Ле Гуин. Описываемые им события закручиваются вокруг неких искажений в реальности, суть которых не имеет никакого значения. Автор скажет, что это первая книга трилогии. А читатель ему ответит отрицанием, поскольку история Вандермеером рассказана от начала до конца, и продолжения ей не требуется. Как бы Джефф не пытался разбить повествование на части, выдав вместо одной добротной книги несколько произведений, завлечь с первого захода у него не получилось. И у всего этого есть свои разумные объяснения. Главное из которых, автор не захотел читателю ничего рассказывать, поделившись лишь общими сведениями касательно одного таинственного объекта. Была бы в его недрах скрыта ужасающая читателя сущность грозящей катастрофы в лице подобия возродившегося Ктулху, да ничего даже не просматривается. Лишь голые декорации для фильма ужасов, не более.
Не те биологи в наше время у американских фантастов. Вот раньше биологи были любопытными, постоянно всё классифицировали. Чуть позже они остепенились, но продолжили искать новые формы жизни. И ведь находили, и ведь не унывали. А теперь? Вандермеер предложил читателю невразумительного профессионала, у которого от биолога только профессия, в остальных же случаях он именуется довольно гордо — Кукушка. Думаете, главная героиня с азартом возьмётся за определение неизвестных науке сущностей? Отнюдь, читателю предлагается средний пейзанин, привыкший рассказывать соседям, какой у него получается отличный стейк, да как он умело стрижёт газон на своём участке. И, как бы случайно, он к тому же по образованию биолог, привыкший на работе к экстремальным ситуациям. Соседи улыбаются до ушей, но они никогда не поверят данному краснобаю, какими бы он красками не наделял недавно пережитое приключение, где ему посчастливилось выжить, а объекту исследования осталось только сожалеть, что от него убежал такой кусок мяса.
Отчего-то Вандермеер создал исследовательскую группу только из женщин. Может уже никто не желает идти в эту зону, откуда ещё никто целым не возвращался, быстро погибая от раковых заболеваний. В своих размышлениях Джефф мог бы напомнить Станислава Лема. Польский фантаст любил использовать в своих сюжетах профессионалов, иногда ограничиваясь только этим, не наделяя именами действующих лиц. Также Лем строил повествование с конца, раскручивая перед читателем картину возможного развития событий, практически предлагая поучаствовать в специфического рода детективном расследовании. Вандермеер так поступать не стал. Может ему было лень, а может он и сам не знал для чего всё это пишет. Его персонажи слоняются по лабиринтам, сталкиваясь с неприятностями. Вместо того, чтобы сесть и подумать, все дружно ударяются в панику, разбегаются по углам и уже в одиночку пытаются разобраться с ситуацией. Логики, разумеется, в повествовании никакой нет. Вандермеер пугает читателя страшилками. Только не триллер это и никак не саспенс.
«Аннигиляция» — это беллетризированный квест, где локации меняются, а читатель находит подсказки, включая постоянные флэшбеки в виде отчётов предыдущих экспедиций. Так и ходит читатель из угла в угол, читая бесконечные вложения, должные пролить свет на разгадку. Только есть ли она, эта разгадка? Впрочем, не важно. Кому действительно интересно, тот будет читать продолжение, а кому нет, тот пусть проявит интерес к творчеству упомянутых в данном тексте писателей — не пожалеете.
Автор: Константин Трунин