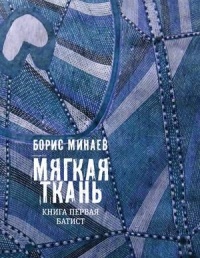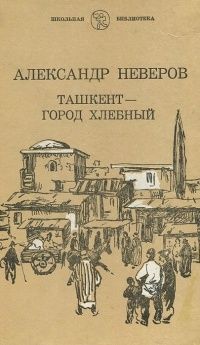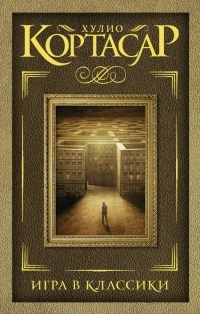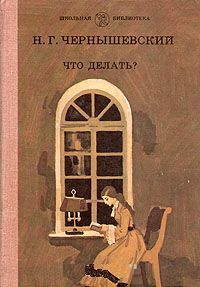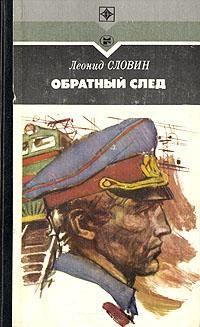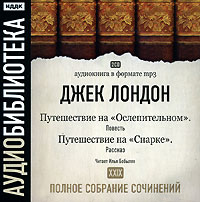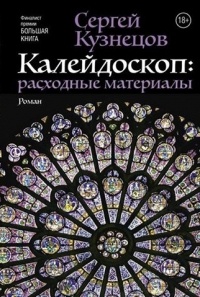Овидий «Метаморфозы» (2-8 н.э.)
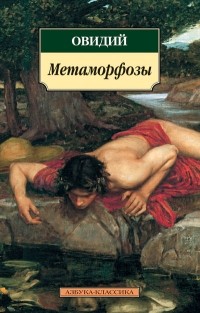
«Метаморфозы» Овидия — это летопись прошлого. Как знать, может и не было ничего из того, о чём взялся рассказать древнеримский поэт, а может именно он создал большую часть известных нам мифов. Для опровержения подобного суждения нужно быть специалистом в античном литературном наследии. В строчках Овидия оживают мифы, а сам Овидий берётся за историю мира с самого начала, повествуя о создании всего сущего, борьбе богов, взаимоотношении их с людьми, вплоть до событий, свидетелем которым поэт мог быть лично.
Овидий, какие бы сюжеты он не описывал, сам излагает в присущей ему вязкой манере. Читатель буквально тонет, погружаясь в болото слов. Овидий излишне сух и скорее ведёт репортаж с места событий, нежели заставляет поверить в происходящее. Нет накала страстей — есть описание смешения чувств у действующих лиц. Читатель наблюдает за происходящим, кому-то из героев сочувствует, но в любой предлагаемой автором истории обязательно побеждают боги, любящие прежде всего себя. Поэтому исход заранее предрешён: посмевших бросить вызов ожидает наказание, чаще всего в виде трансформации в нечто отличное от человеческого образа.
Значение «Метаморфоз» велико. С ними следует знакомиться по отдельности, чтобы из каждой части вынести соответствующие выводы. Не зря вдохновение в поэмах Овидия черпали многие поколения писателей, обращаясь за поиском сюжетов именно к «Метаморфозам». Овидий не останавливался на одних и тех же темах, он совершенствовал прошлое, прилагая усилия к собственной его интерпретации. Есть свидетельства о влиянии Овидия на поэтов, творивших до XX века. Однако, если задаться целью провести сравнения, множество авторов и после возвращались к сюжетам из «Метаморфоз», в том числе и писатели в жанрах фантастики и фэнтези.
Боги чрезмерно жестоки. Овидий их показывает могущественными существами с неистребимым ощущением тщеславия. Они ввязываются в дела людей и доказывают им собственное величие, каждый раз прибегая к доступной им способности изменять действительность. Боги могут наслать на людей несчастье в виде потопа, а могут снисходить до разбирательства в индивидуальном порядке. О вере в богов говорить не приходится, за само сомнение в существовании какого-либо определённого бога следует мгновенная кара, к чему прибегали практически все присутствующие в «Метаморфозах» создания высшего порядка.
Важное значение в сюжетах имеет чувство любви. Без него Овидий не обходится. Каждая часть «Метаморфоз» обязательно содержит соответствующие мифы, согласно которым развиваются события. Касается ли дело любви к самому себе или к другому человеку — всё оказывается едино стремящимся к печальному исходу. Лучше всего это чувство обставляется, когда людьми движет любовь к путешествиям во имя определённых идеалов, тогда Овидий скорее создаст благостное завершение, нежели подвергнет героев трансформациям. Впрочем, изменения происходят со всеми действующими лицами, пускай даже на уровне внутренних ощущений.
Не обходится Овидий и без главного наследия древних греков — Героического века: отрезка времени, вместившего основную часть сказаний о славных поступках мужественных людей. Тогда ещё допускалась связь между человечеством и богами, способствующая рождению героев, чьи способности превосходили возможности обыкновенных людей. Именно в Героическом веке случилась осада Трои, скитания Одиссея, подвиги Геракла, поход Ясона, крах дома Агамемнона и многое другое, о чём Овидий рассказал, а о чём-то умолчал.
Не зря «Метаморфозы» сравнивают с энциклопедией Древнего Мира. Овидий использовал хорошо известные ныне мифологические мотивы. Осталось прояснить, насколько их знали его соотечественники и насколько в их курсе были сами древние греки.
Автор: Константин Трунин