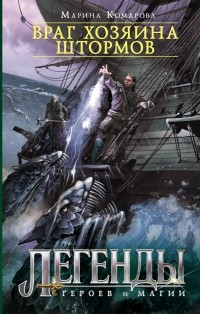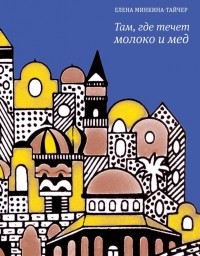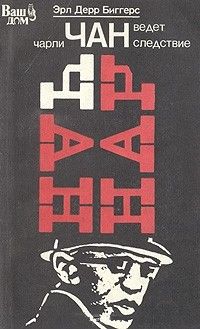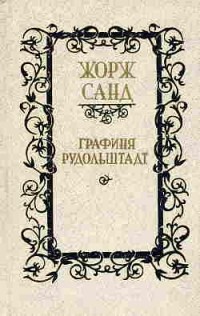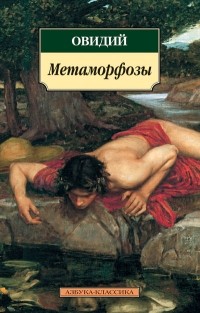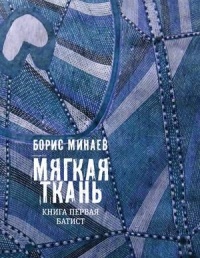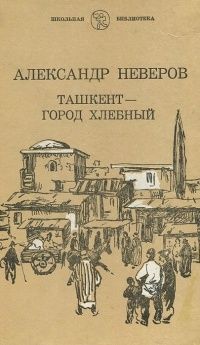Песнь о Нибелунгах (XIII век)
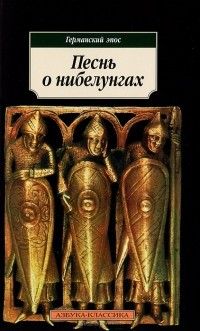
В любой момент, в любые времена, рождается герой всегда. О ком-то народу нужно петь, хвалить его и крест свой несть. Для немцев Нибелунги стали таковыми, их свары помнят и поныне. Их предки могли римлян бить, а после чашу горя пить. Судьба свела однажды два рода, чья дружба крепла год от года. Они объединились в целое одно. Казалось, не разобьёт их теперь никто. Надежды прахом разом все пошли, люди есть и были всегда людьми. Немцы себя же взяли в плен — накрыл Нибелунгов зависти челн. Спасу не смогли найти, измучены ненавистью от ревности они.
В давние времена не было такого понятия как «страна». Тогда дела вершили короли, им подчинялись, превозносили, берегли. За королей шли на смертный бой, быть преданным им мог быть любой. Что до наций и прочей чепухи — всё это предки их поздней изобрели. Человек ценился за умение служить, доказывай верность и оставайся жить. Если призовёт король на войну, пойдут за ним, а не за страну. Потому покоя предки и не знали, они за личные амбиции воевали. Достаточно лишь волю людям объявить, как готово было войско врага бить. Но не зарились на чужое короли, границы только стерегли. Усмирять внутреннюю смуту считалось важнее, вот и лилась кровь очередного лиходея. Преданные люди имелись и у него. Так складывалось древнее бытиё.
Амбициями полны Нибелунги были, прежние друзья о дружбе забыли. Пусть Зигфрид доказал преданностью свою, услужив бургундскому королю. Кто он и кто король? Отчего он храбр и дерзок столь? Почему в бою непобедим? Разве он забыл, кто его господин? Зигфрид — вассал, обязанный служить. Его право помогать и в нужде опорой быть. Он может взять в жёны сестру короля, по рыцарским понятиям иначе нельзя. Добудут и королю жену вместе, исландку Брунгильду, заваренную на крутом тесте. И прежде из-за женщин вражда зарождалась, что на «Песни о Нибелунгах» тоже сказалось.
Оригинальности многое в сюжете о Нибелунгах лишено, читатель с этим встречался в других произведениях очень давно. Все приключения героев откуда-то взяты, не факт, что описываемые события коснулись преимущественно немецкой земли. Вспомнить хотя бы Трою, удела которой дела Зигфрида стоят. Тому имеются факты. Например, он отбирал артефакты. Герой бессмертен почти, хоть и приложил к тому усилия свои. Краткого перечня хватит, остальное читатель сам схватит. После нужно вспомнить плавание Одиссея, называется оно похоже — «Одиссея». Два гомеровских полотна дополняют «Песню о Нибелунгах» сполна.
Зигфрид должен умереть, это надо в виду иметь. Он добыл сокровища, победил дракона, кажется и не должно быть в сюжете иного. Во имя любви эпос зачинался, народ любил его и сказителям доверялся. Любовь же и привела Зигфрида к смертному одру, чтобы народ узнал трагедию ещё одну. Славным бургундам суждено в сечи погибнуть, нашествие гуннов их должно постигнуть. А чтобы помнили люди о племени таком, «Песнь о Нибелунгах» была сложена потом. Перемешались в эпоса строчках правда и ложь, что вымысел в них уже никогда не разберёшь. Был ли Зигфрид сыном кузнеца или он рождён от царского отца? Знавал ли Брунгильду до знакомства Гунтера с ней или не знал, но любовью пылал не к одной Кримхильде своей? Бургундов сомнут всё равно, героическому Зигфриду им помочь не суждено.
Автор: Константин Трунин