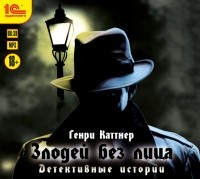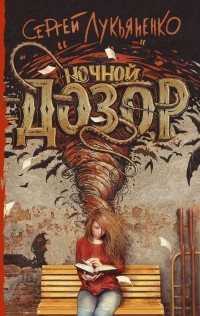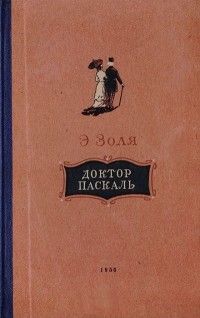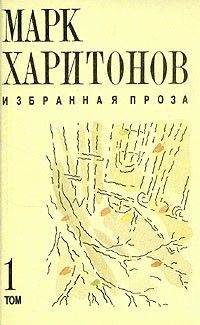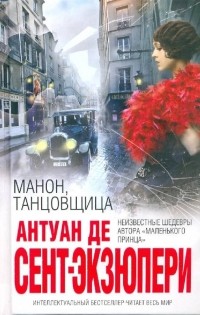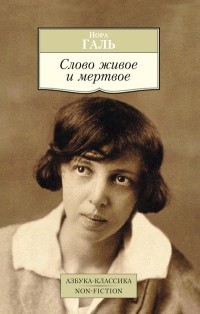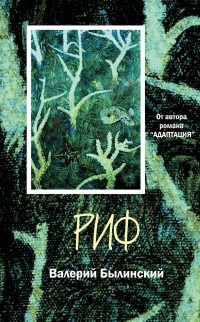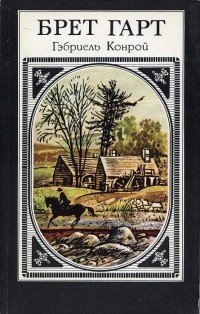Всеволод Иванов — Повести и рассказы (1922-29, 1940-62)
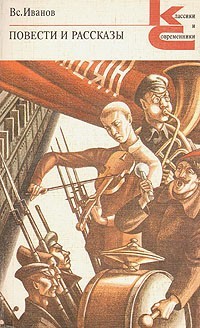
Ничего не поделаешь, советские писатели периода становления государства излагали мысли в совсем уж непотребной кричащей форме. За кого не возьмись, всюду надрыв души, повышенный эмоциональный фон, рваное содержание и отсутствие сюжетной линии. Всеволод Вячеславович Иванов шёл в ногу со временем, поэтому его произведения ничем от ему современных не отличаются. Берёшь «Железный поток» Серафимовича, видишь похожую манеру письма. Берёшь другого писателя — опять в том же духе изложено. Безусловно, интересно наблюдать за метаниями человеческих порывов, не находящих себе покоя в пору столкновения интересов, выраженных гражданской войной. И нужно тот фон принять, иначе нельзя подходить к пониманию творчества людей, переживших подлинную трагедию понимания с ними происходящего.
Темой рассказов Всеволода Иванова преимущественно является советский восток. На страницах задействованы китайцы, японцы, жители Сибири и Средней Азии. Что-то может касаться иных областей страны. Чаще каждый рассказ представляет собой нечто эпически малое, возведённое в ранг человеческого отчаяния. Герой становится героем прежде всего в своих глазах, умирает и о нём более никто не вспоминает. Иванов брал историю о подобном для воплощения в рассказе и, в изматывающих писательское нутро словах, изливал скопившийся в нём текст.
Ярко! Под пером Иванова людей могли сбрасывать со скалы, их черепа трескались о камни, они телами насаживались на острые грани, им вослед сбрасывались другие люди. Человек у Иванова мог лечь на рельсы перед поездом и тут же застрелиться, чтобы не позволить движущемуся составу помешать красным закрепиться на позициях. Старик мог просто утонуть, пытаясь спасти ребёнка, делая это в порыве желания броситься в воду и помочь. Порядочные селяне вмиг оказывались преданными делу большевиков, пусть вся их семья большевиками же была растерзана. И далее в подобном духе — эмоции и снова эмоции.
Какой вывод читатель сделает из прочитанного? Сомнительно, чтобы хотя бы какой-нибудь вывод у него получилось сделать. Идеологическая борьба красных за обладание умами населения страны ушла в прошлое. Ныне читатель понимает, насколько красные стремились к справедливости, боролись за неё и добивались, обращая противника в бегство. Такой образ должен соответствовать истине по праву желания на то победителей. Иванову осталось романтизировать образ красных воителей, боровшихся за правое дело, погибавших безлико и тем усиливая величие поступка, эпически малого.
Когда пыл Иванова остынет, он возьмётся за повесть «Вулкан», рассказав о Крыме и курорте Коктебель. Писать он её будет на протяжении двадцати двух лет. Читатель это поймёт, знакомясь с текстом. Возникнет мысль, что Иванов в год дополнял повествование очередной главой. Конечный вид повести стал напоминать нечто мазаное по бумаге, лишённое эмоционального фона вообще. Усталость стала преобладать. Могла сказаться Вторая Мировая война — источник совершенно иных чувств, нежели владевших сознанием людей в двадцатых годах.
Бронепоезд 14-69, Вулкан, Бык времён, Лога, Синий зверюшка, Пустыня Тууб-Коя, Старик, О казачке Марфе, Поле, Жизнь Скотинина, Полынья, Оазис Шехр-и-Себс, Сервиз, Особняк, Барабанщики и фокусник Матцуками: таково содержание сборника рассказов, предлагаемых читателю издательством «Художественная литература» в серии «Классики и современники». Надо постараться оценить авторский текст со всем достоинством. Нужно прорваться через рваный стиль. Создать представление о целостности содержания. Забыть о прочей литературе. Видеть лишь желание писателя высказаться. Тогда проза Всеволода Иванова не будет прочитана зря.
Когда новый день несёт новое, а старый уносит старое, значит жизнь не стоит на месте. А если жизнь не стоит на месте, то стоит бороться за обновление старого. В ином случае старое не даст дорогу новому, последует взрыв и говорить придётся на эмоциях, как Всеволод Иванов.
Автор: Константин Трунин