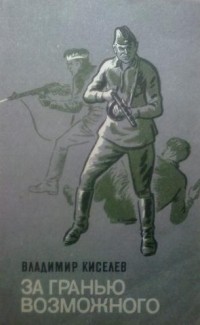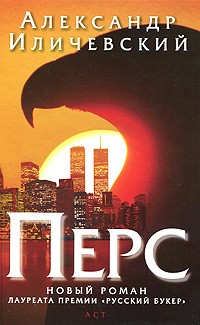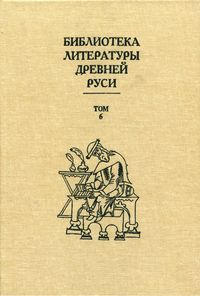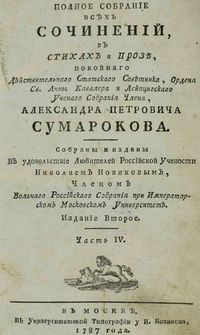Александр Куприн «Листригоны» (1907-11)

Восемь рассказов Куприн посвятил Крыму: Господня рыба, Тишина, Макрель (или Балаклава), Воровство, Белуга (или Листригоны), Бора, Водолазы и Бешеное вино. Проводить разграничение между ними не будем, рассмотрим в качестве единого произведения, пропитанного воспоминаниями о морских традициях, связанных с Балаклавой рыбаков.
Для начала давайте проникнемся духом тех мест. Послушаем природу. Что слышно? Ничего! Стоит звенящая тишина. Такой нигде более не найти. Плеск воды? Шум прибоя? Нет! Поглощающая всё до звона в ушах тишина. Слышно только бегущую по сосудам кровь. От таких ощущений можно представить подплывающего к берегу Одиссея и выступающих против него великанов Листригонов. Обычный человек желает обрести покой и умиротворение, но созерцает битву, пульсирующую у него в голове. Видение исчезает и в руках оказывается Господня рыба.
Существует легенда о рыбе, всегда умирающей, будучи выловленной. Один раз она ожила, уже изжаренная. Оживил её Иисус Хритос. С той поры имя ей — Господня рыба. Поскольку она умирает — сохранить её вне моря нельзя. Может такую рыбу можно засушить и оставить на память? Видимо, она исчезает, не оставляя следов. Такова легенда рыбаков из Балаклавы.
Кто они — эти рыбаки? Это греки. Тяжек ли их труд и достойно ли он оценивается? С утра труд рыбака бесценен, к вечеру он не стоит и одной копейки. Почему так? О том Куприн размышляет не так давно, начав незадолго до знакомства с жителями Крыма. Покуда Солнце будет озарять небосвод, до той поры золото не утратит силу, но с приходом на небо Луны всякий металл обесценится, как и рыба, как и любое прочее человеческое чувство, если оно не является отражением дружеского отношения людей друг к другу.
Драгоценный улов выбрасывается за борт, чтобы быть собранным потом. Когда лучше? Разумеется утром. Но всегда ли ловится рыба? Существуют для того специально отведённые дни, разрешающие ловлю с помощью больших сетей. Три дня в год праздник жизни должен постучаться в дом семьи каждого рыбака, в остальное время отказывая в том заслуживающим быть всегда радостными. Подобную строгость рыбаки обходят с помощью браконьерства. По всей Земле они так поступают, и будут поступать, пока существует рыба, и пока есть возможность ходить по воде.
Не стоит загадывать заранее. Рыбаки не думают об ожидающем их улове. Есть у них такая примета. А кто поступает наоборот, размышляя и предваряя промысел думами, того тоже ожидает удачный выход в море, как к тому не относись другие рыбаки. Норд-ост ли, либо нечто иное… Какие могут быть преграды, когда полагается всегда рассчитывать на удачу, иначе зачем вообще выходить на ловлю?
Снова тишина. Одиссей покинул сии места, ежели когда-нибудь к ним приплывал. Ушли и Листригоны, ежели смели тут некогда жить. Их сменили Листригоны нынешние — борцы со стихией и постоянные обитатели в пределах между уходящей до горизонта поверхностью моря и берегом, куда редко приходится сходить, дабы встретиться взглядом с семьёй и отдохнуть, готовясь встретить рассвет в раскачивающейся на волнах рыбацкой лодке.
Когда наступит время забыть обо всём, нужно обо всём забыть. Как? Уподобиться Листригонам! Всякий человек является великаном, коли посмеет мыслить о себе более того, чего он может достичь в действительности. Не на берегу, но на море такое становится возможным. Уже нет земли под ногами, и нет опоры, и нет защиты, а есть угроза, и это пьянит, и уже поэтому хочется жить ещё сильнее.
Автор: Константин Трунин