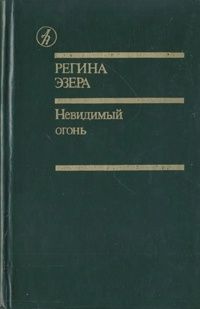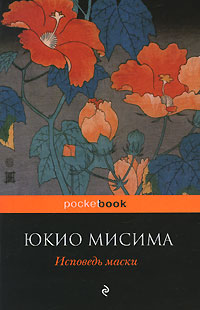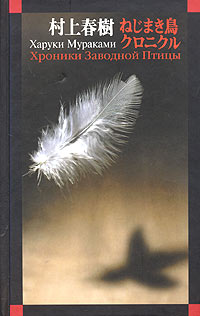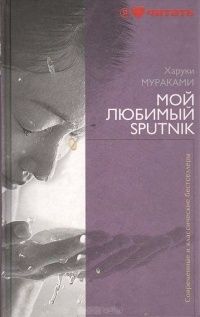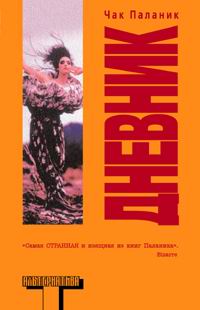Елена Радецкая «Нет имени тебе…» (2014)
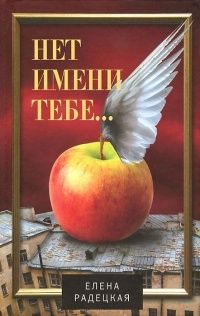
Вы говорите — три истории, три женщины, три поколения. И вы понимаете, какая пропасть пролегает между ними. Но можно ли серьёзно принимать тот контраст, который при этом наблюдается? Отчего же возвышенное понимание прекрасного неизменно должно свестись к траве, колёсам и удовлетворению похоти в бомжацком антураже? Великосветский Питер на самом деле теперь представляет из себя то жалкое подобие былого великолепия, которое, без всякого стеснения, решила предложить Елена Радецкая читателю?
Это всего лишь сотрясение головного мозга и его последствия. Как иначе можно охарактеризовать происходящее? Начиная с картин старого города и сравнения настоящего и былого, чтобы резко оборвать сюжет в угоду советской действительности, дабы далее внести ещё более вопиющие элементы. Не связываются в единое целое три предлагаемые Еленой истории. Тут скорее разрыв восприятия реальности и желание преподнести разные сюжеты под одной обложкой, увязав с преемственностью поколений. Получилось у Радецкой путешествие от светлых оттенков к мрачным.
Так с чего же начинается повествование? Действительно, главная героиня получила сотрясение головного мозга. После чего нашла место, откуда можно совершить путешествие в прошлое, а именно в 1862 год. В воображении предстают перспективы радужных перемен: никто из достойных ещё не родился, а сам Питер не пережил катастрофический пожар. Вокруг красивые и обходительные люди, поражающие статью и манерами. Какую же страну мы потеряли — возникает мысль. И как-то не имеет значения, что тургеневские нигилисты несли разлагающие идеи в массы, а поиски человеческой совести всё активнее пробуждались в Достоевском. Предлагаемый Радецкой Питер — это скорее образец гусарской доблести, без понимания отрицательных моментов.
Бесконечные сравнения наполняют страницы произведения. Писатель показывает наблюдательность главной героини, способной по памяти восстановить ещё не построенное, а также провести параллели с давно разрушенным, что теперь предстало перед её взором. Сама же героиня при этом плохо ориентируется в датах, не зная из истории ничего, кроме отмены крепостного права и родившихся после этого знаменитых людей. Хоть и великолепна была атмосфера в 1862 году, но культурные люди получается жили в полном бескультурье, не понимая за напыщенностью поступков, ярко выраженного для главной героини, их неведения касательно прекрасного.
Описываемая Радецкой действительность всё равно остаётся важной для последующих поколений, поскольку рост самосознания в итоге выльется в тотальную деградацию общества. Может лучше было не замечать происходящих перемен? Но скорее именно Радецкая наполнила прошлое иллюзиями, далёкими от реальности. Прекрасное разбивается о последующий советский быт и ещё более ужасающее осознание современности самой писательницы.
Если первая история наполнена фантазиями, то вторая подготавливает почву для третьей: будто сон закончился и пришла пора открыть глаза. Читатель, изрядно уставший от описания принципа работы голубиной почты и особенностей испанской архитектуры, сталкивается со смертью в мужской обличье и не может найти слов, внимания ещё одному гостю — на этот раз из прошлого. Его присутствие в сюжете является лишней нагрузкой и никак не отражает воззрений человека минувшего на происходящие в мире перемены.
Радецкая всё более раскрепощается. В сюжете появляется похабщина, ещё в меру детская, но далёкая от того понимания произведения, которое у читателя сложилось изначально. В один момент и без веских причин идеалы прошлого превращаются в такие темы, о которых ранее говорить было не принято. Конечно, гусары тоже были способны совершать сексуальные безумства и слыть ещё теми развратниками, однако ни о чём подобном Радецкая не говорит. Но стоило ей вспомнить советское прошлое, когда тлетворное влияние Запада стало проникать в сознание граждан, то романическая составляющая произведения мгновенно рассыпалась во прах. Разговор коснётся половой жизни между супругами, позиций и отношения жены к «мужскому достоинству» мужа.
И всё это происходит на фоне постоянных авторских отступлений. Понять Радецкую можно. Хоть она и закрытый человек, информацию о котором найти крайне затруднительно. Только нужно понимать, что данное произведение является её первой работой. Конечно, если это на самом деле так и под её именем не скрывается кто-то другой, не решившийся взять на себе смелость открыто говорить о дне сегодняшнем.
Завершающая история является порывом откровения. Но она такая же иллюзорная, как и первая история. Радецкая снова задействует фантазию, предлагая вместо возвышенных чувств проявление самых низменных. Пусть новая героиня увлекается чтением классических произведений, только вот думы о блаженном Августине она приравнивает к мукам собственной промежности, накануне натёртой в порыве страсти. И нет в её мыслях жалости к себе — она дитя своего времени. Именно так обставляет современность Радецкая: молодёжь курит траву, да ублажает плоть при первом её зове.
У каждого поколения всегда будут собственные ценности. К сожалению, граница между ними стирается по мере удаления её от дня нынешнего. Как нельзя сейчас с твёрдой уверенность разбираться в тонкостях XIX века, так и в будущем XX век будет восприниматься каким-то определённым образом. Главное, чтобы XXI век не закрепился в памяти людей временем распущенности и вседозволенности. Мы сами создаём будущее, поэтому Радецкая скорее ставит крест на начале третьего тысячелетия, сваливая в кучу грехи группы маргиналов, придавая им тот вес, которым они не располагают.
Куда же деваться читателю и как теперь ему трактовать жажду к творчеству у людей вообще? Некогда прекрасное под ударами модернистов привело к извращённому понимаю реальности. Как не понимаешь потуг авангардистов, так и не понимаешь писателей, смешивающих жанры и отступающих от общепринятых норм. Уже недостаточно рассказать историю — нужно как-то выделиться.
Елене Радецкой удалось заявить о себе. Только стоило ли так фантазировать?
Автор: Константин Трунин