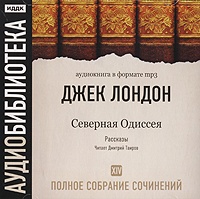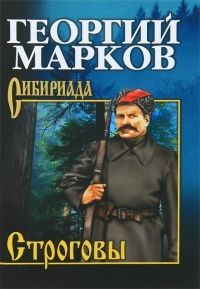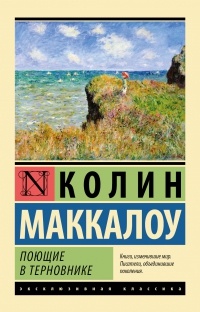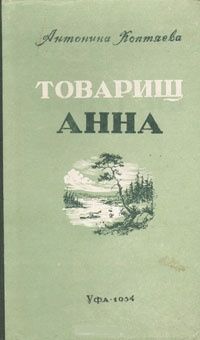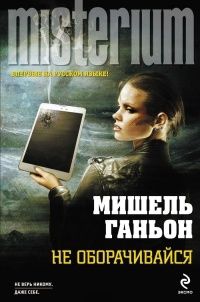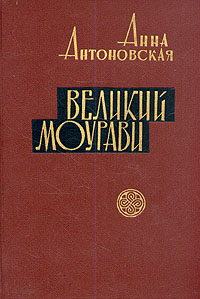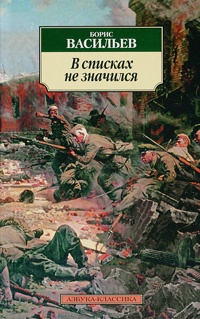Лион Фейхтвангер «Лисы в винограднике» (1947)
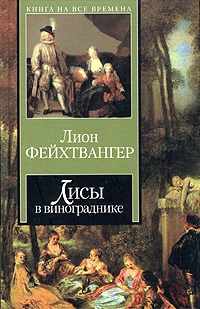
Работу запущенных механизмов трудно остановить. Ещё труднее, если дело касается человеческого общества. Одна идея сменяет другую. И вот — революция! Движение ускоряется, сметая преграды. Этого нельзя избежать, можно попытаться отсрочить. Безумные мысли сгорают, а разумные способствуют прогрессу. И именно о его важности решил рассказать Лион Фейхтвангер, взявший для примера британские колонии в Америке, совершившие невероятное деяние — отреклись от короля. Вольные каменщики, масоны, поставили для себя целью развить подобное в других государствах. Свершился прогресс человеческой мысли, зажжённый французскими мыслителями. Сперва их взяли на вооружение тринадцать американских штатов, а позже дело дойдёт и до самой Франции. Пока же Фейхтвангер предлагает проследить за событиями, приведшими к Войне за независимость в Северной Америке. Если Вашингтон воевал и отстаивал право на самостоятельность у себя дома, то Франклин делал это непосредственно в Европе. Действие книги «Лисы в винограднике» происходит в Париже.
История любит случайности. Очень трудно делать прогнозы, когда нельзя учесть все факторы, способные повлиять на промежуточный результат. Фейхтвангер главную случайность в деле обретения независимости Соединёнными Штатами Америки видит в литературном гении Пьера Бомарше, чьи труды позволили опосредованно предоставить взбунтовавшимся колониям оружие. «Севильский цирюльник» дал опору сперва Бомарше, а потом трансформировался в требуемую за океаном помощь. Интересный факт, который трудно соотнести с политикой; он не будет иметь весомого значения для учебников истории. Беллетристика наоборот цепляется за такие случаи, стараясь их во всех красках раскрыть перед читателем. Во многом именно поэтому Фейхтвангер уделяет столько времени Бомарше. Жизнь талантливого человека состояла из взлётов и падений. И это ещё больше интересует писателя, для которого насыщенная событиями жизнь становится возможностью наполнить повествование большим количеством деталей.
Фейхтвангер не всему уделяет внимание. Только интересующие его моменты являются важными. При обильной словоохотливости, он многое пропускает, уделяя внимание основным событиям. Так Фейхтвангер с удовольствием описывает сцену, где император Священной Римской империи Иосиф II советует королю Франции Людовику XVI сделать обрезание, дабы Мария-Антуанетта наконец-то родила дофина. Касательно самой Марии-Антуанетты Фейхтвангер весьма рьяно описывает сцены, где её порицают за растраты, принуждая вести более скромный образ жизни. Всё это эпизодические мелочи, являющиеся тупиковыми ветвями сюжета. К ним относятся и гложущие Франклина мысли о предательства сына, убеждённого роялиста, как и о похождениях внука, аналогично предающего отца, как некогда поступил сам Бенджамин. Аналогичный дискомфорт вызывают конвульсии умирающего Вольтера, последнего из плеяды философов, заложивших новое понимание человеческого общества. Можно всё это считать приятными дополнениями к основному сюжету.
Повествование книги «Лисы в винограднике» не даёт читателю представления о действующих лицах. Фейхтвангер не считает нужным подробно на них останавливаться. Героев гложут определённые проблемы. Вот о них писатель и говорит. Конечно, каждое действующее лицо добилось нынешнего положения не единожды споткнувшись. Возьмись Фейхтвангер более основательно, как могло получиться невероятно масштабное полотно. Стали бы понятными воззрения действующих лиц и их поступки. Незаслуженно опустил писатель тему детства Франклина, а ведь он был пятнадцатым ребёнком в семье. Как незаслуженно опустил и тему масонства. Складывается ощущение недосказанности, когда на происходящее влияло много мелких событий, при полном отсутствии того, что имело критическое значение для истории. Теперь читатель будет уверен, будто убийство королём Франции кошки и явилось причиной обретения американскими колониями независимости.
После окончания событий этой книги грянет буря. А за ней ещё одна буря. Прогресс неумолим. Фейхтвангер прав, когда утверждает, что всё новое когда-нибудь устареет. Снова буря.
Автор: Константин Трунин