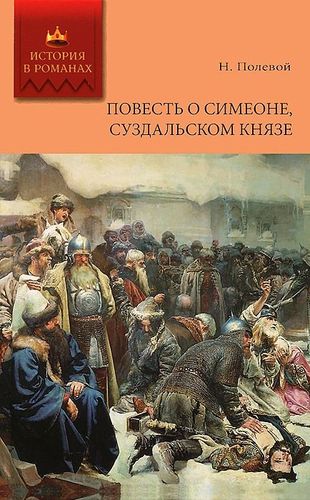Иван Тургенев «Странная история» (1869), «Стук… стук… стук!..» (1870)
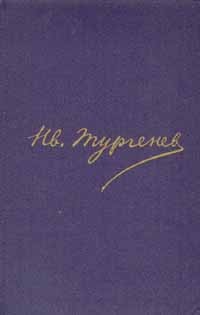
Погружаясь в рассказы Тургенева, читатель старается понять их примечательность. Нужно ли это делать? Или надо воспринимать написанное за отражение эпизода, имевшего какую-либо возможность в действительности? Современная Ивану критика вовсе не стремилась воспринимать столь незначительные произведения, ни к чему в плане мысленного процесса не побуждающих. О чём говорить, если всё предельно ясно? И пусть ряд ценителей способен породить мысль на материале любого уровня, побуждая искать смысловое наполнение, либо к тому будут призывать различного рода интересующиеся, основной сути это не изменит.
Взять для примера рассказ «Странная история». Он примечателен обстоятельствами публикации. Первоначально Тургенев писал его для немецкого журнала, там же опубликовав в переводе на немецкий язык. Вскоре в России рассказ перевели, без разрешения автора опубликовав. Издателю — прибыль, писателю — ничего. Критика промолчала, не пожелав реагировать на новое произведение Тургенева. Зачем? Ещё одно творение от писателя. Однако, внимая «Странной истории» читатель отмечал непривычного для себя автора. Сложилось впечатление, Иван писал в духе страшных немецких историй, всего лишь угождая вкусам той читающей публики.
Что же такое имелось в содержании? Перед чтением произведения обязательно нужно впасть в ощущение созерцания мрачных внутренних начал. В некоем городе Н. рассказчик остановился в гостинице, где познакомился с юродивым Васькой. Умел тот Васька призывать духи умерших. Рассказчик загадал увидеть давнего знакомого… и юродивый на самом деле призвал его дух. Спустя время рассказчик узнает, как с Васькой сбежала приличная девица, непонятно из каких целей к нему проявившая симпатии, скорее потеряв положение в обществе. Единственное к чему читатель должен подойти — к понимаю мотивов этой девицы. Допустимо провести сравнительный анализ с прочими девушками из романов Тургенева, так называемых «тургеневских девушек», шедших за возлюбленными до самого конца, каким бы печальным исходом это не грозило.
Год спустя Иван пишет менее мрачный рассказ «Стук… стук… стук!..». Читатель остался глух к содержанию. Искать примечательное в том, как один человек изводил другого стуком, после чего изводимый предпочёл свести счёты с жизнью? Говорить о впечатлительности отдельно взятых людей? Про слабость человеческой психики? Про восприимчивость всего неясного, понимаемого за злой рок? Такое вполне позволительно, напиши Тургенев не рассказ, а роман. Нужно больше материала для понимания изложенного. Зачем делать глубокие выводы из одного события? Подобного вовсе не требовалось. Но если читатель имеет сильное желание толочь воду в ступе, никто не станет мешать намерению найти в тексте более, нежели сообщил непосредственно писатель.
Требуется быть честным с самим собой. Не всякий читатель знаком с большинством произведений Тургенева. И мало кто читал собрания сочинений от корки до корки. Желание придавать ценностью абсолютно всему, написанному писателем, является бессмысленным занятием. Такие рассказы нужно читать из побуждения удовлетворить любопытство. Основное, важное к пониманию, молва вынесет на поверхность, забыв про прочее. И Тургенев не стал исключением. Его всё равно не остановит читательская отстранённость. По правде говоря, писатель пишет об интересном лично для него. Поймёт и примет ли это читатель — значения не имеет. Ещё меньше значения отдаётся критике — отыскивающей в тексте наполнение, чаще всего автором созданное без определённого смысла, ни к каким мыслям не должное побуждать.
Читатель скажет, что и данный текст не требовалось публиковать. Ничего нового сообщено не было. Ради чего? Прочитал — и иди дальше. Критик мог бы не согласиться, посчитав за правильное промолчать.
Автор: Константин Трунин