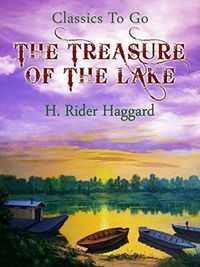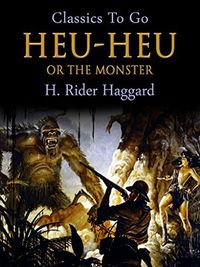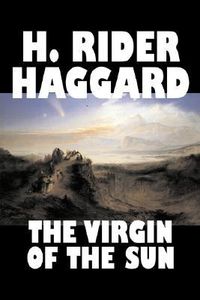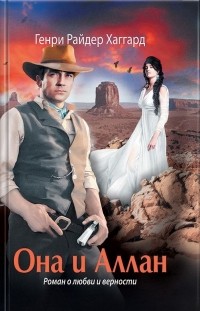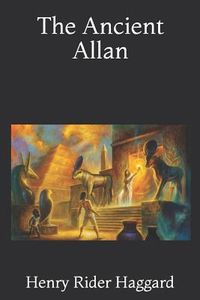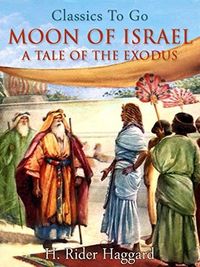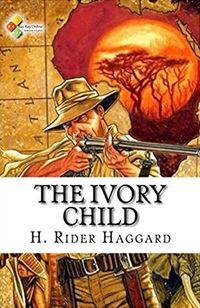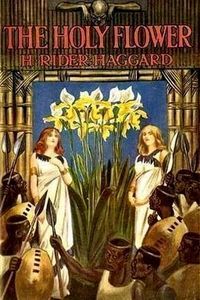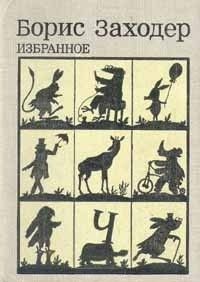Константин Паустовский – Сказки (1945-54)
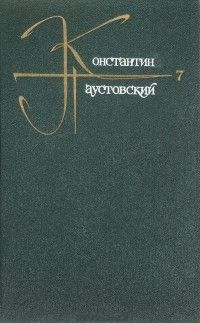
Среди прочего наследия Паустовского нашлось место и сказкам. Писались они на протяжении десяти лет, оказывались пропитанными авторским стремлением видеть окружающее лучшим, нежели оно есть, при том не прилагая усилий к иному осмыслению, то есть рассчитывая на внимание совсем уж непритязательного юного читателя. В иной момент читатель прямо желает указать писателю на излишне допускаемое в его суждениях наставничество. Не всё в мире белое, находится место и чёрному, в том числе и должному негативно восприниматься. Кто же остановит писателя в свойственных ему порывах? Потому и не следует мыслить шире, нежели предложено.
Сказка «Тёплый хлеб» (1945) — это повествование о наказании за плохие поступки и награду — за хорошие. Читателю сообщалось о коне, получившем рану в бою с немцами. Он прибился к близко жившим людям, став просить у них съестного. Всякий делился с ним, отдавая иногда и последнее. А один мальчик оказался жаден, тем обидев коня. Налетели на поселение холода, перемёрзла вода, отчего остановилась работа мельницы, что грозило для поселян голодной смертью. Кто же виноват? Неужели мальчик? Бабушка рассказала ему, как некогда подобное уже было — тогда местный житель обидел солдата-калеку, отчего случился неурожай и даже трава на протяжении десяти лет не росла. Конечно, мальчик усвоит урок и выпросит прощение у коня. Только читатель обязательно задумается: почему для немцев таковой кары не последовало, зато обыкновенные люди, до того кормившие коня, за единственный отказ жадного юнца, вынуждены принять смерть. Вполне очевидно, происходящее в повествовании является сказочным сюжетом с должной быть извлечённой соответствующей моралью, без допуска сторонних рассуждений.
Солдатская сказка «Похождения жука-носорога» (1945) или иначе «Старый жук» — сказ про обыкновенного жука, прошедшего боевой путь вместе с отцом семейства. Смысл был следующий: всякому доброму сказанию на передовой каждый боец оказывается рад. Опосредованно касалась темы войны и сказка «Стальное колечко» (1946), она же «Перстенёк». Возвращавшиеся солдаты выменяли у девушки кольцо за горсть махорки, сообщив об его удивительных свойствах, будто бы надев на определённый палец — получишь много радости. К сожалению, девушка кольцо утеряет, будет горевать и надумает нехорошего. А по весне найдёт, и тогда придёт в её дом долгожданная радость. Именно таков краткий пересказ сюжета данной сказки.
«Дремучий медведь» (1947) и вовсе сельская идиллия, рассказывающая о горемычной судьбе медведя, думавшего полакомиться овцами, но в итоге из-за действий пастуха Пети, не имевшего ста рублей, а имевшего сто друзей, был искусан пчёлами, и даже хвоста лишился, оставив его в зубах рыб речных. Подобного, чрез меры сказочного повествования, Константин придерживался в сказках «Растрёпанный воробей» (1948) и «Артельные мужички» (1949). В оных сюжет вовсе потерян для попытки его осмысления.
Сказка «Заботливый цветок» (1953) — скорее повествование на тему любви к природе, о невозможности правильно понимать её замысел. Разве нужно раз за разом говорить, как сам Паустовский, ещё порядка двадцати лет назад, призывал к изменению окружающего под нужды человека? Теперь он переосмыслил те призывы, наоборот рассказывая о недальновидности людей. Наиболее ярким ему показалось сообщить о траве кипрей. Раньше думали, сия трава губит молодые деревья, закрывая их от солнца. Как потом выяснили, стоило вырвать кипрей, и деревья вскоре погибали. Почему так? Оказалось, он обогревает всё, находящееся с ним рядом. Вот так и становится понятным, что воспринимаемый вредным, кипрей таковым не являлся. Какой вывод мог сделать читатель? Ничего в природе не существует напрасно — всему необходимо находить объяснение.
Напоследок нужно рассказать о сказке «Квакша» (1954). Читатель разве не знает, что услышать кваканье древесной лягушки — к дождю? Тогда нужно ознакомиться с сюжетом сказки. Да, лягушка съела всех дождевых червей из спрятанной банки, и за то могла быть убитой рассерженным рыбаком. Только дети знали — лягушку следует сохранить, так как она предсказывает дождь. Действительно кваканье обладает столь магическим действием? Константин постарался доказать, дав читателю пропитанный сказочностью сюжет. У него лягушка умеет разговаривать с чайками, а те обладают способностью вести за собой дождевые тучи. Так, за содеянное для лягушки добро, люди смогли избавиться от угрожавшей их существованию засухи.
Автор: Константин Трунин