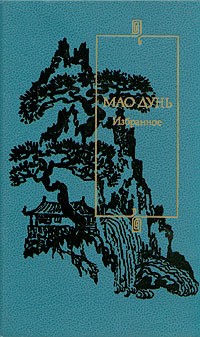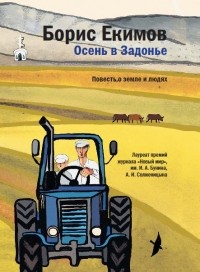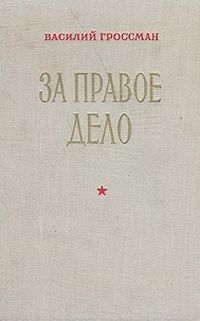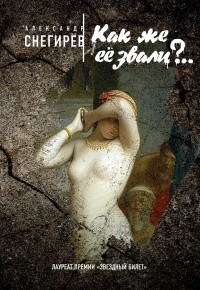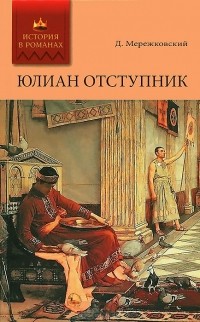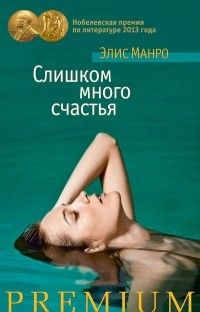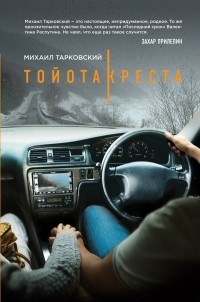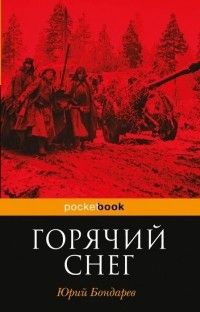Полина Барскова «Живые картины» (2014)
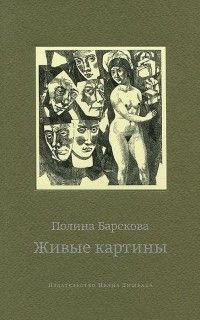
Предварительно разлинованное, пропорциями не обделённое, схематически прорисованное, красками едва раскрашенное — живое трепещущее полотно работы Полины Барсковой. На непритязательный взгляд стороннего человека — работа, подобная множеству. Автор, как художник, отобразил богатство внутреннего мира, сообразно способностям. Понимание сути изложенного — занятие для ценителей. Барскова будет стоять в стороне и выражать недоумение от неспособности читателя понять замысел. Желающие найти, обнаружат разное: кто-то возрадуется технике исполнения, иным откроется скрытое под имеющимся, остальные задумаются на миг и махнут рукой.
Усугубляет восприятие текста использование Барсковой нецензурных элементов. Подобное полотно проще скрыть от глаз, нежели позволить к нему прикасаться всем желающим. Снабжённое возрастными ограничениями и под непроницаемой материей, полотно станет понятнее в должной мере подготовленному. Ознакомившись с сокрытым текстом, читатель не найдёт причин наложения покрова. Он был готов именно к такому восприятию художественного произведения, грубо измаранному автором. В ряде мест им обнаружены непотребности, словно писатель кромсал ладно скроенное, внеся в написанное элементы бульварщины.
Зрительно представляется «Большая волна в Канагаве» Хокусая, утягивающая за собой мусор после обрушения на поселение, в немоте за кадром слышится нецензурной брань и сетования на злосчастную судьбу. Только вместо японского сюжета Барскова исходит из советской действительности военного времени. Представленные Полиной образы наполнены ленинградской блокадой и репрессиями. Об этом она пишет с той же болью, которую испытывали жившие тогда люди, использовавшие отнюдь не лестные сравнительные эпитеты.
Среди живых картин преобладают портреты. Барскова воссоздаёт в текстовом виде чаяния настоящих людей, отражая на страницах их боль и неустроенность. Они не могли найти себя и не пытались этого делать. Была ли в их мыслях борьба за право на жизнь? Жить приходилось при имевшихся на тот момент обстоятельствах, отсюда проистекают их страдания от творческой неудовлетворённости, обязавшей прибегать к языку Эзопа. Полина не делает из этого тайны, она лишь напоминает об одной из главных сторон литературы — не следует понимать написанное в прямом смысле, иначе автор зазря писал беллетристику, банально на потребу дня.
Единожды прочитанное произведение «Живые картины» никогда более не будет потревожено. Авторские зарисовки могут заинтересовать читателя, но чаще в них затруднительно разобраться. Книга была издана малым тиражом и могла совершенно затеряться в информационном потоке, не будь она номинирована на литературную премию «Ясная поляна», остановившись на уровне длинного списка претендентов. Безусловно, автору будет приятно уже само осознание факта, что его труд смог заинтересовать специалистов. Обязательно появятся читатели и кому-то произведение понравится, будут и равнодушные к нему.
Некоторые моменты действительно способны зацепить читательское внимание. Сама тема блокады и репрессий побуждает ближе познакомиться со страданиями людей, выживавших или уповавших в режиме тогдашнего государственного устройства. Аллюзий на современность найти не получится. Барскова отображает фрагменты прошлого, осмысливает их заново и побуждает читателя ещё раз задуматься о происходящих с человеком вещах.
Тема натурализации — ещё один беспокоящий автора эпизод. Внимать ему и понимать его — личное дело читателя. Автору это близко и он не мог обойти внимаем столь важное для него обстоятельство. В наборе зарисовок есть место для всевозможных историй, особенно при отсутствии определяющей мысли главной линии. Читателю предоставлено ранее нигде не выставлявшееся, поэтому не стоит питать особых надежд на богатое содержание. Внимать предстоит тому, что так и не было разобрано.
А теперь — раз ни у кого нет вопросов — давайте перейдём к следующему автору…
Автор: Константин Трунин