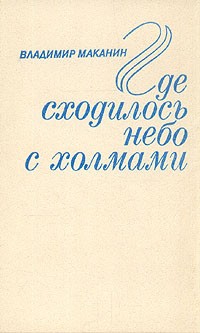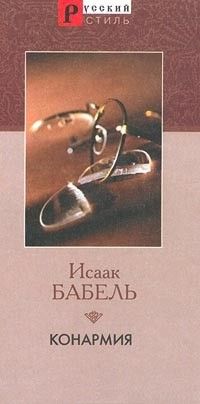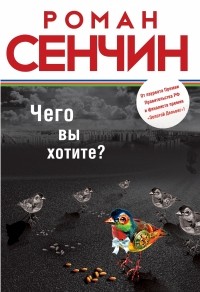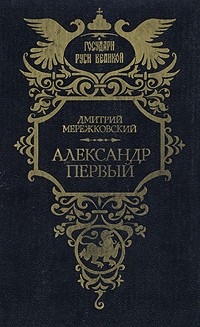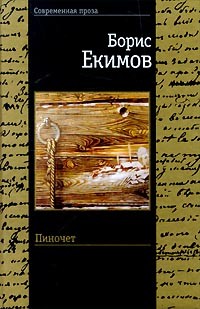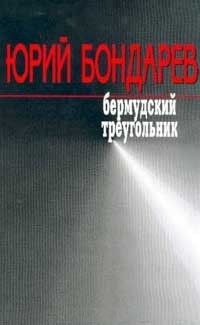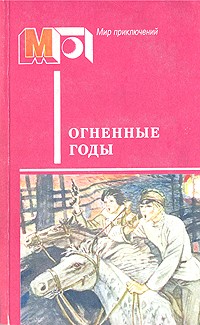Джеймс Хэрриот «О всех созданиях — прекрасных и удивительных» (1974)
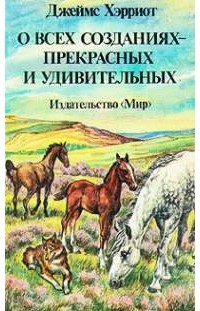
Всё, что можно сказать о втором сборнике рассказов Хэрриота, было сказано о первом. Стало меньше умерших животных, появилось больше нерадивых фермеров. Джеймс в прежней мере женат, ожидает повестку для службы в армии. Свободное время он заполняет работой. Продолжает сталкиваться с трудностями ветеринарной профессии, не высыпается по ночам, консультируется с узкими специалистами и неизменно гуманен. Каждый случай из его практики можно рассматривать отдельно, но этого делать не стоит — пусть читатель сам ознакомится с творчеством Хэрриота.
Поскольку Джеймс начал писать воспоминания довольно поздно, он постоянно сравнивает прошлое с его настоящим. Он не упускает возможности посетовать на отсутствие важных для здоровья животных лекарств, печалится от томившей его раньше неизвестности, когда теперь всё некогда происходившее уже не сможет вызвать прежних проблем. Не стесняется Хэрриот расписываться в собственной неспособности в ряде случаев, припоминая раз от раза, насколько мало он проработал практикующим ветеринаром. У него появились знакомые соратники по призванию, в чём-то знающие гениальные рецепты для облегчения труда, а в чём-то загоняя положение мучающихся зверей в худшее, нежели было.
Приходится недоумевать, насколько мало знали фермеры о том, чем они занимались. Может Хэрриоту на таких везло? Словно не по наследству переходило хозяйство, не учил отец сына премудростям разведения животных, а просто из чистого любопытства люди поселились в сельской местности и принялись за выращивание скота. И это при том, что Джеймс периодически оправдывает фермеров, действительно приехавших из города для ведения хозяйства на селе, ибо такова их мечта, или хозяин умер, не передав никому секретов мастерства, отчего подворье повально вымирает. Но большинство из вызывавших Хэрриота всё-таки занимались животноводством давно, значит должны были иметь представление о своём занятии. Только не имели, что крайне странно.
Оттого и описывает Джеймс множество вызывающих возмущение ситуаций, в которых он один чего-то стоит. Знания у него не отнять — по повествованию он является грамотным специалистом в ветеринарном деле. Ему доводилось постоянно спасать животных, иного Хэрриот рассказывать не мог. И упирает он чаще сугубо в безалаберность людей, способных запустить хозяйство, забыть о домашних питомцах и заниматься чем угодно, кроме заботы о прекрасных и удивительных созданиях. Со своей стороны он будет прав, какими бы его способности к излечению братьев меньших не видели непосредственно воззвавшие к квалифицированной помощи.
Чем ценится проза Хэрриота, так это занимательными случаями из практики. Если чего не может повториться у другого, то того, что случалось с Хэрриотом. О чём-то не перескажешь, заново заливаясь слезами веселья, о другом — слезами сочувствия. Попробуй разгадать ещё один ребус, наблюдая за мучениями животного. Или разберись с человеком, чья натура не поддаётся пониманию, но всё же заслуживает снисхождения. Каждый достоин быть понятым, даже не имей он права на прощение.
Опять читатель понимает, скоро практика Джеймса прервётся. В первом сборнике рассказов он уже отправился служить, во втором же — получил повестку. Читатель узнает, как трудно далась Хэрриоту необходимость покинуть дом, поскольку появилось то, чему он должен будет посвящать часть оставшейся жизни. С войны он мог не вернуться, тогда трудно бы пришлось жене. Мысли Джеймса переполнены, думы омрачены, но деваться ему некуда — нужно исполнять долг перед страной. Осталось понять, почему при переводе на русский язык об армейских годах Хэрриота решили не рассказывать, вырезав эти моменты из повествования последующих книг.
Автор: Константин Трунин