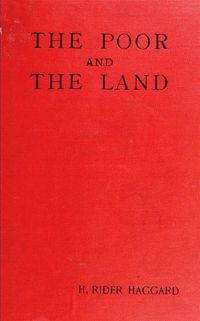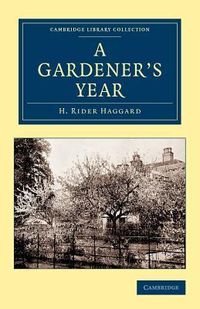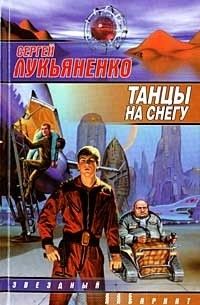Николай Лесков — Некоторые статьи 1886-91

С 1886 года Лесков — ярый защитник Толстого. О чём бы Лев Николаевич не рассуждал, Лесков его всячески поддерживал. Так за 1886 год вышел ряд статей. Первая из них — «Лучший богомолец» — касалась «Тенденций». Николай видел в Толстом истинно религиозно настроенного человека, в отличии от смеющих выступать против него с критикой. Следующая статья — Откуда заимствован сюжет пьесы графа Толстого «Первый винокур». Третья — «О куфельном мужике и проч». Теперь начинало казаться, Лев Николаевич способен объяснить абсолютно всё. Оставшийся загадочным со времён Достоевского, куфельный мужик, способный дать ответ на все вопросы, при этом никогда не покидая кухни. Выходило теперь — мужик тот может научить лишь жизни, и только.
В 1887 году Лесков публикует статью «Ненапечатанные рукописи пьес умерших писателей», сообщая о том, что ему известны тексты произведений, должные скоро появиться в печати. Тогда же написана заметка «На смерть Михаила Никифоровича Каткова», оставшаяся без прижизненной публикации. Не была опубликована и статья «Темнеющий берег», направленная против политических устремлений царя Александра III, запрещавшего выходцам из низших сословий поступать в гимназии.
В 1888 году написана статья «Пресыщение знатностью». Касалась она господ различной величины, чья сущность сводилась под одно, одинаково должное цениться за возвышенное к остальным положение. Тогда же опубликована статья «Бибиковские меры» — Николай вспоминал о привычке Бибикова стращать студентов солдатами, тем способствуя уменьшению недовольства, используя солдат в основном для острастки.
Кроме того, в 1888 — Лесков вступил в полемику со Штанделем, опубликовав заметку «О хождении Штанделя по Ясной Поляне». Оказывалось, Штандель проездом побывал у Льва Толстого, от силы пробыв у него четыре часа. Теперь он писал нелепицы, сравнимые с бредом сумасшедшего. Николай не стеснялся критиковать, объясняя по пунктам, в чём именно Штандель не прав. На это Лесков получил возражение. Последовала новая заметка — «Девочка или мальчик? (Десятый грех недостоверного Штанделя)».
Ещё статья за 1888 год — «Великосветские безделки». Она про то, как каждому поколению говорят о присущей ему тупости. И всё равно поколение выходит умнее, нежели их предшественники. Можно сказать — ничего в сущности не меняется. Так и продолжат говорить. Объяснение очевидно — по молодым людям нельзя судить об их умственном потенциале, так как большая часть действительно останется на приземлённых позициях, тогда как малая — осуществит возлагаемые на них надежды.
1891 год — статья «Ходули по философии нравоучительной». Лесков размышлял о значении слов, утрачиваемых, под прежним их пониманием не знаемым. Статья «Нескладица о Гоголе и Костомарове» — привычная для Лескова необходимость восстановления истины. Статья «Новое русское слово» — обострение борьбы славянофилов за чистоту русского языка по поводу вышедшего словаря, содержащего излишек иностранных заимствований. Статья «Замогильная почта Гончарова» — по поводу писем, доставшихся Лескову по завещанию.
Как видно, Лесков старался говорить правдиво, не допуская лживых представлений о действительности: нельзя , только бы сказать. Нет нужды тешить самолюбие, не имея представления. Строго и существенно важное — прочее отметается. Как раз таким и предстаёт перед читателем Лесков. Не скажешь, не видя в Николае настолько нетерпимого борца за справедливость. Нет, он умел сдерживаться, хорошо наученный опытом шестидесятых годов, стоивших ему продолжительной опалы. Нет нужды говорить излишне много и прямо, умные люди итак догадаются о происходящем, тогда как глупые не поймут, сколько им на то не указывай. Ежели оно так, нужно поддерживать интерес, не давая забываться существенно важным вещам. К таким выводам приходишь, знакомясь с публицистикой Николай Лескова.
Автор: Константин Трунин