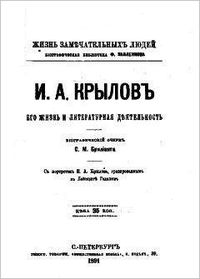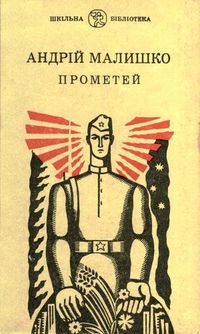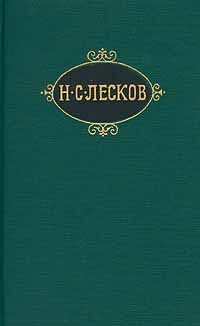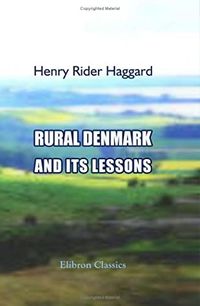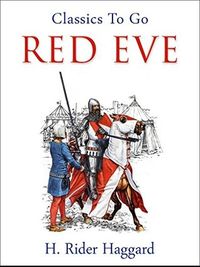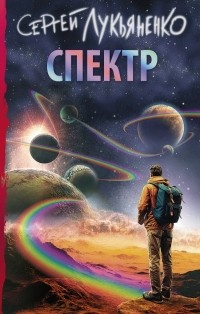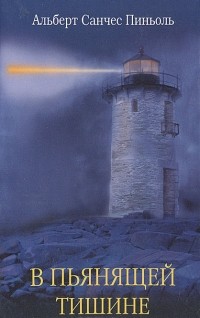Михаил Люстров «Фонвизин» (2013)
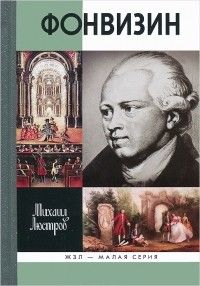
Чтобы перестать воодушевляться деяниями Запада, нужно проникнуться жизнью и представлениями Дениса Фонвизна — об этом в очередной раз, в числе прочих, решил напомнить Михаил Люстров. Не измышляя дополнительных объяснений, биограф пошёл по пути наименьшего сопротивления, позволив самому Фонвизину о себе рассказывать. Для этого Люстров взял произведения Дениса и его письма, строя повествование более на пересказе, нежели на обработке текста. Иначе не могло получиться, учитывая небольшой срок жизнь Фонвизина, с довольно мизерным количеством произведений, которые допускается написать за предоставленное для того время. Раз так, Михаил приступил к рассказу о Фонвизине, ничего сверх ожидаемого сообщить не сумев.
Но читателя нужно заинтриговать с первых строк, ведь следует дать надежду на интересное содержание. Люстров обратился за помощью к Гоголю. Есть такое произведение у Николая Васильевича «Ночь перед Рождеством» (из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»), и есть в оном произведении главный герой повествования — кузнец Вакула, и совершает тот кузнец фантастический вояж в столичный град, и встречает там, помимо прочих, причём на приёме у императрицы, самого Фонвизина. К сожалению, данный любопытный факт является последним, прежде биографами практически не упоминавшийся. Раз так, то и продолжение у биографии должно было быть соответствующим. Однако…
Люстров представил Дениса Фонвизина в качестве честного и раздражительного человека. Срывал ли злость Фонвизин? Сведений о том Михаил не предоставил. Наоборот, Денис предпочитал негодовать в мыслях, либо в письмах, самолично не дозволяя гневных высказываний. Метать стрелы он себе дозволял, никогда не давая гневу материализоваться. Понимание честности выражалось и вовсе через свидетельство об одном эпизоде лет ученичества, когда Фонвизин решил ответить о незнании ответа на вопрос о море, в которое впадает Волга.
У Дениса была склонность к изучению иностранных языков, в чём он себя хорошо зарекомендовал, благодаря чему поступил на службу в качестве переводчика. Следовательно, наследие Фонвизина на самом деле велико, только как теперь установить, какие конкретно тексты переводил Фонвизин? Свидетельства сохранились лишь в отношении художественной литературы, тогда как прочее потонуло в безвестности.
Люстров упоминает умение Дениса говорить разными голосами, благодаря чему был вхож в многие дома, особенно для чтения им же написанных произведений. Может потому его комедиям удалось стать достоянием русской литературы, чему способствовал декламаторский талант.
И всё же правильным будет говорить о становлении взглядов Дениса. Что оказало наибольшее влияние? Михаил уверен — в том заслуга Гольберга и его басен. Именно за них Фонвизин брался, ещё не зная о выбранном пути литератора. Прочтённое возымело должный эффект, из-за чего Денис в дальнейшем не терпел любых ложных умствований. Вероятно, оттого отрицательно Фонвизин относился к масонству.
Самое полезное для читателя начинается с внимания к письмам Дениса — к кладези отрицательного отношения к европейским нравам. Михаил постарался в полной мере отразить ненависть Фонвизина. Европа предстала перед Денисом в худшем обличье, населённая противными русскому духу людьми. На улицах Европы им отмечалась грязь и нечистоты, пение французов сравнил с блеянием, итальянцев назвал прохиндеями. И это вполне оправдано, если самостоятельно ознакомиться с письмами Дениса, подробно разъясняющими, чем именно ему не понравилась Европа.
Вполне можно подумать про пристрастие русских к европейским порядкам, лишённые действительно полезного содержания. Ежели так, тогда понятна обида Фонвизина на пристрастие русских к французским, итальянским и, вполне, немецким традициям. Таким и вышел Денис у Михаила Люстрова, не способным примириться с чуждыми порядками.
Автор: Константин Трунин