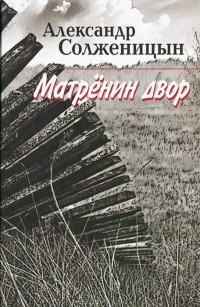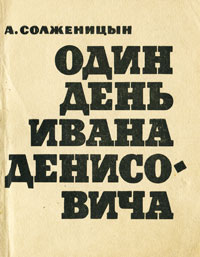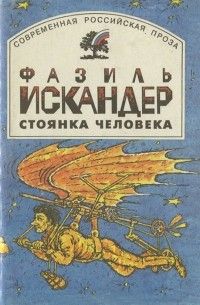Михаил Салтыков-Щедрин «Письма о провинции (с пятого по шестое)» (1868)

Сложности в провинции обычно решаются по мере их возникновения. Лучшее средство — полное уничтожение компрометирующих материалов. Одна из истин гласит: ничего не случается просто так. Михаил потому подмечал особенность русских пожаров. Когда приезжает ревизор, по роковому стечению обстоятельств сгорает всё то, чему предстояло подвернуться проверке. Ничто не останавливает людей перед опасностью пострадать от прежней нерадивости. Находятся и другие способы уладить дела — способов для того хватает: взятку дать, либо навечно закрыть глаза очевидцу. Это болезнь, которую нельзя излечить, пока не изменится само сознание человека, заинтересованного в создании непосредственно общего блага, а не обеспечивающего хрупкость тыла, обязательно обречённого однажды заполыхать.
Всякое случается в провинции. Например, человек как бы по документам умер, при этом оставаясь живым, пользующийся выгодами своего положения, избавленный от общественных обязанностей. Такая же ситуация с крепостным правом — вроде бы отменённым, продолжающим существовать, только в изменённой форме. На переходный период вводились определённые должности, нисколько не способствовавшие плавному, либо резкому переходу. В любом случае, Салтыков не видел изменений в провинциальной жизни.
Кроме того, Салтыков отмечает повсеместное пьянство. Ладно, ежели пьют крестьяне, утоляя горькую судьбу. Но ведь пьют и должностные лица, находящиеся при исполнении. Тут уже не о горькой судьбе речь, а о распоясанности. Человек в провинции напрочь забыл об ответственности, глубоко плюющий на всё, всегда готовый поправить шаткое положение за счёт принятия решительных мер. Исправить подобное не представляется возможным, если, опять же, не изменится самосознание.
Вот тут-то можно подумать, будто крестьянам полагается самостоятельно улучшать условия существования. Они должны взять власть в свои руки и вершить судьбу по собственному разумению, повергая всех им противных лиц осуждению. И вроде бы оно всё так, за исключением осознания пренеприятнейшего факта — бедный духовно и умственно не способен добиться ему требуемого. Бывший крепостной не скоро подвергнется соответствующей трансформации. Его дети может и смогут переосмыслить настоящее, тогда как непосредственно ему предстоит существовать без возможности иначе понять происходящее.
К каким мыслям Салтыков вёл читателя? Провинция, по его уверениям, с трудом принимала изменения. Сам Михаил не замечает, чтобы имелись отличия от бывшего до 1861 года. Всё ровно в такой же степени осталось. И тут приходится поверить. Ведь он то видел сам. Да и писатели, вроде Тургенева, примерно в тех же годах описывали аналогичное положение провинциалов. Ещё ничего не побудило периферию внять обязанность следовать царским наставлениям. Даже страшно представить, как всё обстояло прежде, ежели в середине XIX века — во время небывалого ускорения человеческой мысли — сохранялась тугость в мышлении. С таким подходом к жизни легко отстать абсолютно во всём.
Салтыков был уверен, что вслед за освобождением крестьян и рабочих от ярма, необходимо заняться их образованием. Негоже иметь дармовую силу, занимающуюся подённой работой. Следующим этапом непременно должно стать подвижничество интеллигенции. Как некогда славянофилы брались судить о русском обществе в свете его обязательной принадлежности к русскости, так теперь им предстоит отказаться от перспектив, становясь добровольными учителями, обязанными передавать знания людям из низов. Не совсем так говорил Михаил, но ход его мыслей заставляет предполагать именно это.
Будем думать, Салтыков близился к переосмыслению прежних позиций. Вместе с этим он понимал, провинция духовно всё равно останется провинцией. И это при том, что всё богатство России формируется за счёт как раз провинций.
Автор: Константин Трунин