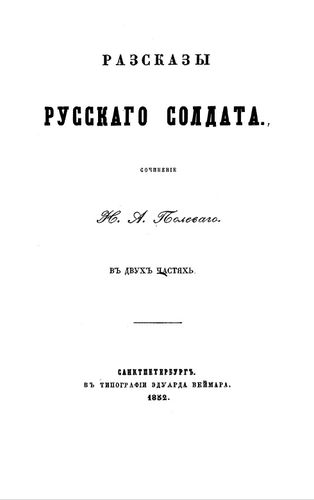Надин Гордимер «Хранитель» (1974)

Как же разобраться в нарративах западной литературы? Что они хотят от мира, в котором продолжают существовать? Почему им мнится нечто такое, к чему они продолжают тянуть руки? Сперва низводят всё до примитивного состояния, после стараются повернуть вспять. Почему нет последовательности в их действиях? А если человек с таким образом мысли оказывается в любом другом месте, там он начинает заниматься точно тем же. Вот взять в качестве примера Надин Гордимер, жительницу Южной Африки, чья жизнь напрямую связана с осмыслением апартеида. Она поставила целью дать чернокожему населению равные права. И свою позицию выражала в числе прочего через литературные произведения. Одним из таковых стала книга «Хранитель», но написанная всё равно в духе осмысления мира взглядом западного человека.
Нельзя сказать, чтобы книга читалась легко. Не за это на неё обратили внимание. Вследствие чего-то англоязычный мир ведь начал заниматься самоедством. Годом ранее Фаррелл ославил британцев чернением поведения в колониальных индийских владениях. Теперь вот Надин Гордимер решила разбавить тягостное впечатление от бремени белого человека, во многом наделив главного героя своим личным мировоззрением, внушив ему необходимость жить с муками совести. Но думала ли Надин наперёд, сколь всё может повернуться вспять, когда уже любого белокожего начнут принимать, в первую очередь задумываясь над необходимостью причинить ему страдания? Если не в ЮАР, то в соседних государствах точно, где не так-то просто оправдаться за белый цвет кожи. Быть может к русским там и проявят снисхождение, если успеешь об этом сказать.
Что делает главный герой на страницах произведения? Мучится совестью. Он видит, как смерть чернокожего ничего не значит. Даже пусть он убит, никто не станет это расследовать. Где найдут, там и закопают. Что до христианских норм морали? На чернокожих они не распространялись. Как такое вообще может быть? Кто бы о таком мог знать. Зачем вообще западный человек низводит всё в пропасть? Спустя поколения начинается игра с совестью. То он обращает в рабство и продаёт на плантации, после начинает с этим бороться. То он призывает не считать за людей, затем стремясь найти в душе уголок сострадания. Это тяжело понять. Не понимала того и Надин Гордимер.
Можно сделать предположение, основываясь из мест происхождения её предков. Она — дочь евреев, переехавших в Южную Африку, отец — из Российской империи, мать — из Лондона. Может в этом кроется её миропонимание. Всё-таки в ней больше от матери, но ощущение присутствия совести — от отца. Осталось разобраться с обуревавшими её чувствами. Она выплёскивает их на страницы произведений. Причём всё в том же западном духе, низводя повествовательный слог на червоточины западной же литературы, впитавшей гнилость чрезмерного внимания к низменностям человеческих стремлений. Опять читатель видит моменты, никакого влияния не оказывающие, но активно используемые. Для чего в произведении со столь тяжёлым наполнением опускаться до описания мужской эрекции и женских сосков? Ещё один вопрос, ответ на который невозможно найти.
Если же смотреть на книгу Надин Гордимер поверхностно, ничего вовсе не заметишь. Просто задумаешься о существовании проблем, тебе неизвестных. Это не значит, будто читатель лишён возможности сочувствовать неоднозначности созданного в Южной Африке положения, просто читатель не может понять, на каком основании подобное вообще могло возникнуть? Если о чём «Хранитель» и напомнит, то о сложности восприятия устройства осмысления действительности на Западе. Может им там стоит попробовать смотреть на жизнь прямо, не прикрываясь восприятием через чувство собственной важности?
Автор: Константин Трунин