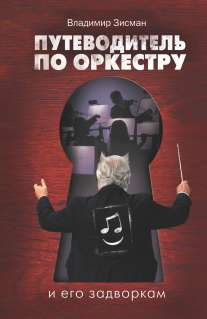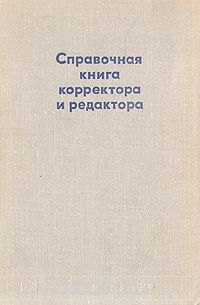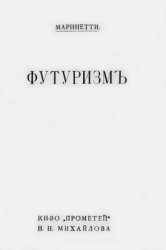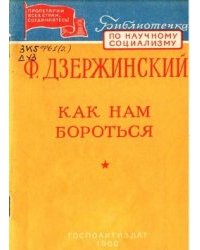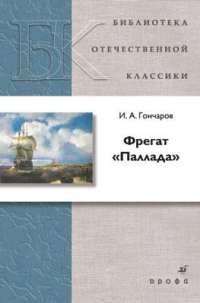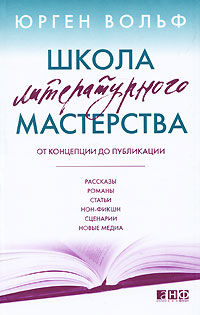Пэн Дэхуай «Мемуары маршала» (1981)
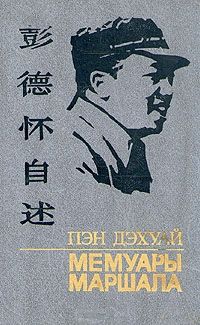
Многострадальное население Китая за XX век натерпелось столько горя, что иным странам хватит и на тысячу лет. В 1911 году пала императорская власть, в стране установилась республика. К 1927 году внутренние противоречия достигли такого накала, вследствие чего вспыхнула гражданская война, сперва напоминавшая холодное противостояние, а после стороны перешли к активным боевым действиям. Ситуация ещё более усугубилась к 1933 году, после агрессивного вторжения в Китай японских военных сил. В такой ситуации гражданская война и вовсе могла обернуться для страны сокрушительной утратой независимости. Всё это время нагнетали обстановку европейские державы и особенно Соединённые Штаты Америки, которым после окончания Второй Мировой войны понадобился новый плацдарм, развёрнутый ими в Корее, попутно они принимали участие в обострении внутренних противоречий в самом Китае. С 1966 года Мао Цзэдун дал начало Культурной революции, которая продолжалась на протяжении последующих десяти лет. Это время можно сравнить с чистками, когда многие политические деятели были устранены. Среди них оказался и маршал Китайской Народной Республики Пэн Дэхуай, умерший в 1974 году. Потомки собрали материал, полученный следователями в ходе выбивания показаний из бывшего маршала, и опубликовали его. «Мемуары маршала» открывают Китай с новой стороны, но при этом они всё-таки лишены многих важных деталей, не взятых во внимание составителями.
Пэн Дэхуай родился в 1898 году. Он рано ощутил на себе, что значит быть бедным, сменив множество профессий, пока не обрёл себя в армии. Не сказать, чтобы армия была настоящим спасением, но в ней он стал себя чувствовать более уверенным, не думая о завтрашнем дне. После падения Китайской Империи и социалистической революции в России, Пэн Дэхуай всё больше думает о коммунизме, чему способствует общее направление политических взглядов Сунь Ятсена, первого временного президента провозглашённой республики. Главный принцип «каждому крестьянину своё поле» доминирует в «Мемуарах маршала» на протяжении многих страниц. Сами мемуары ничего не говорят о политике внутри Китая, поэтому непонятно, кто был у власти. Согласно китайскому мировоззрению, спокойствия в стране не появилось и после установления республики. Население никаких перемен не ощутило — люди жили на старый лад, также претерпевая неудобства от проходящих через селения банд разбойников и войск противоборствующих сторон. Всё это происходит на фоне общего обнищания народа. Крестьянин никогда не знал, когда ему придётся расстаться с жизнью, и насколько это будет мучительным процессом.
Именно на борьбу с бедностью направлены порывы молодого Пэн Дэхуая, не испытывающего жалости, если нужно будет казнить особо провинившегося помещика. Строй старого Китая жил в людях, не желая уступать место веянию возможности слиться всей планете во всеобщей братской дружбе. Именно таким образом протекала жизнь будущего маршала до 1927 года, когда пришло время определяться — будет ли он поддерживать Чан Кайши во главе Гоминьдана или всё-таки предпочтёт влиться в ряды Коммунистической Партии Китая. Пэн Дэхуай выбрал КПК, и с этого момента начинается самый трудный отрезок его жизни. На его долю выпадет постоянное участие в боевых действиях, прорыве окружений и заботе о нуждах солдат.
«Мемуары маршала» показывают развитие революции в трёх провинциях. Как обстояло дело в других — непонятно. Какие-то из них контролировал Чан Кайши, другие удерживали коммунисты, а третьи обладали полной самостоятельностью и в любой момент могли объявить о своём выходе из состава страны. Удивительно, почему Китай в итоге не развалился, сумев дать отпор агрессии Японии и США, став в итоге одной из ведущих держав мира. С 1927 года мемуары сконцентрированы только на отражении карательных походов Чан Кайши в отношении КПК и расхождениях во взглядах Пэн Дэхуая и Мао Цзэдуна. Возможно, Пэн Дэхуай слишком превозносит заслуги коммунистической армии, поскольку каждое сражение напоминает избиение Давидом Голиафа, где силы Гоминьдана каждый раз имеют превосходство в три-четыре раза, и постоянно их уничтожают мелкие отряды противника. Как при таком тактическом гении КПК не одолела Гоминьдан сразу? Сам Пэн Дэхуай объясняет это просто — их противник большей частью состоял из безыдейных призванных насильно крестьян.
Нет в «Мемуарах маршала» конкретики касательно помощи Советского Союза Китаю: ни слова об освобождении Маньчжурии от японских милитаристов, о поставке вооружения. Как нет и сведений о действиях США, помогавшей вооружением Гоминьдану. Зато есть подробное изложение военной помощи корейским коммунистам, где американцев безжалостно уничтожали, никого не оставляя в живых. Составителей мемуаров не интересовало становление КПК, им было важнее показать именно отношение Пэн Дэхуая к председателю Мао, чему они всё больше уделяют внимание. Трудно сказать, чтобы Пэн Дэхуай был ярым противником линии Мао Цзэдуна, даже наоборот — он постоянно подчёркивает свою неграмотность и неспособность судить о правильности тех или иных суждений, относясь ко всему с позиций рядового жителя страны, чьё собственное детство не отличалось радужными моментами. Стоит отметить, что любая коммунистическая литература всегда изобилует множеством терминов, будто надо быть очень умным человеком, чтобы всё это усвоить. Пэн Дэхуай об это открыто не говорит, но и не стесняется указывать на те моменты, которые ему просто никак не удаётся понять.
Самое большое упущение мемуаров — отсутствие информации о причинах падения Чан Кайши. Об этом совершенно нет никаких сведений. Получается, что устраивая продолжительные марши из одного края страны в другой, воюя малыми силами, теряя больше половины людей в сражениях, КПК всегда добивалась положительного сдвига ситуации в свою сторону, отчего в один прекрасный момент они стали преобладающей в стране силой. Очень жаль, что разъяснения этому в книге нет.
В комплексной попытке понять Китай «Мемуары маршала» отчасти помогут, но питать особых надежд на это не следует.
Автор: Константин Трунин