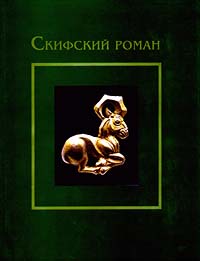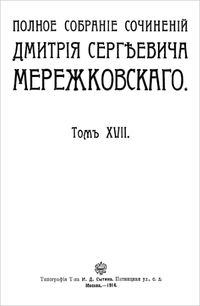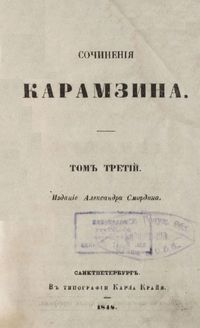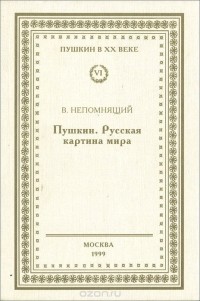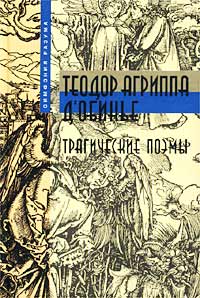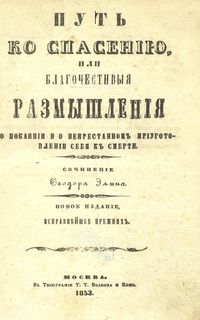Рене Декарт «Размышления о первой философии: Первое размышление» (1641)

Первому размышлению даётся определение того, что может быть подвергнуто сомнению. И сомнению может быть подвергнуто абсолютно всё. На том и строится диалог людей, взявшихся о чём-то судить. Обязательно между ними найдутся различия во взглядах, причём произрастающие от мельчайшего несходства, воспринимаемого ими в качестве критически важного обстоятельства. Но всему своё время и место. Обязательно требуется любая идея, должная служить в качестве опоры суждений. Определённо точно можно быть уверенным — лживые предпосылки приводят в конечном счёте к верным выводам, правда не всегда рассуждающему ясно, когда наступит момент, знаменуемый верным, поскольку чаще промежуточный итог воспринимается за действительную истину. На самом деле, к чему не стремись человек — на протяжении существования отдельно взятых индивидов, либо человечества вообще — определяющего бытие вывода достигнуть не получится. Поэтому неважно, живёт ли человек в окружении лживых предпосылок, или он ратует за доказанное в качестве истины, он продолжает существовать в мире изменяющихся мнений, так или иначе опирающихся на суждения, сказанные его современниками и предками. Посему требуется определиться сугубо с фундаментом знаний, на котором будут выстраиваться собственные теории. Так Декарт решил дождаться, пока его мировоззрение не примет очевидного для него вида, после чего он и взялся создавать метафизику, основанную на признании существования Бога. Но для первого размышления он вынужден принять за данность, будто Бога нет.
Из чего состоит истина? Она не возникает из пустоты, для её получения требуется обладать соответствующей информацией. Ведь нельзя воссоздать понимание прошлого, не имея о нём никаких представлений. Так и о происходящем сейчас не скажешь, если имеешь о нём смутные представления. О будущем и подавно не следует судить, не взяв для рассмотрения совокупность великого множества процессов. Однако, всё становится проще, ежели будет отказываться всему в праве на существование. Почему бы не думать, что жизнь — есть сон? Сновидения случаются разные, в том числе и далёкие от реальности. Значит могут существовать и мнения, к реальности имеющие опосредованное отношение, связанные с действительностью фантазией предполагающего. Такие мнения чаще всего опровергают устоявшиеся суждения, берясь разрушить их доказательство на собственном примере, опираясь на мнимые предположения. Отчего в той же мере не возвести стену против Бога? Раз возможно отгородиться от солнечного света, тогда и власть Бога может померкнуть, не способная пробиться через ханжество сомневающихся.
Постулат, аксиома, либо догмат — не позволяют сомневаться в верности установленного за неоспоримую истину. Необходимо принять на веру, будто это так. Ведь нельзя усомнится, что сложение двух и трёх даст в сумме пять, как и обнаружить у квадрата более или менее четырёх сторон. Это не нужно принимать на веру, так как зримо и не требуется проведения дополнительных исследований. Но постулат, аксиома, либо догмат — подлежат обязательному сомнению, ибо если они окажутся далёкими от истины, тогда всякое доказательство, основанное на их применении, станет несущественным. Для Декарта, в случае Бога, стало важным разрушить сомнения. Для этого он взялся определить Бога основой представлений о метафизике сущего, и если Бог окажется лишним, тогда всё им рассматриваемое станет подобием сновидения, а умозаключения — ложными.
Бога не может не существовать: таково твёрдое уверение Декарта. Бог — есть всё сущее, он — окружающая всё субстанция, и он — мы сами. А ежели этого нет, значит и мы сами не существуем. Поэтому пусть всякий сомневающийся представит, будто его нет, тогда он поймёт — Бог есть.
Автор: Константин Трунин